Дождь идет и снег идет, и тебя похоронили, и моя тоска! От слёз делается легче, а когда не могу плакать — мучит тоска. Раскручивается кладбище, как будто по земле раскинутое колесо. И над гробами чужими плачут полным голосом. Снег падает на мертвое твое лицо, и мать перебирает молчаливо твои волосы…
Не надо правды, и лжи не надо. И только боль одна больная на сердце камнем ляжет. Как ты мучился, как ты кричал! Мать удерживала тебя из последних сил. Ничего не говорите мне об этом…
Ты знаешь, как плохо твоей матери. Сколько раз она тебя маленького купала, и целовала головку и щечки. Теперь жалеешь ее, просишь прощения; хочешь, чтобы она была жива. Ты никогда не противоречил ей, ты добрым был всегда. Приходишь ночью к ее изголовью, утешаешь ее с любовью, говоришь ласковые слова. Приди и ко мне! В самом начале дня, утром. Сядь на краешек моей одинокой постели, погляди на меня, скажи и мне ласковые слова…
Почему я никогда не помогала тебе? До конца буду корить себя. Ушел мой беззащитный терпеливый собеседник и не с кем стало говорить ночами…
Твоя голова с этими волосами откинутыми. Большие веки, закрыты глаза. Всё представляю себе, мой беспомощный, мой больной. Я видела твою болезнь, зачем же я не помогла тебе? Каждое утро я плачу, боюсь наказания и знаю, что виновата…
Нет, я не верю ни во что, и не на что мне опереться. Кто мне скажет, что когда я говорю с тобой, это я не сама с собой говорю? Одна только боль остается, она не уходит из сердца. Когда же всё кончится, когда умру, когда сгорю?..
Я прихожу на кладбище к твоей могиле. Тяжесть на сердце, легкость на душе. Ты здесь, ты здесь. Твоя могила далеко. Не холодно тебе внизу в земле? Не больно тебе? От одиночества, от темноты, от страха ты не плачешь? Ведь ты мой маленький мальчик. Домой не хочется тебе? Не плачешь ты где-нибудь в уголке потихоньку? Страшная Учительница-Смерть учит тебя земляным буквам. Холодная вода течет под землей. И там темно! И там повсюду посинелые и потемнелые бледно различаются, мертво глядятся сумрачные лица. Смуглыми ладошками ты прикрываешь глаза, ты боишься опустить ручки. Тебе велели чисто вымыться — чтобы ни одной кровавой корки, чтобы отмыть все косточки от мускулов и жил. А ты так хорошо учился в школе, когда ты был маленьким мальчиком; и маленьким мальчиком ты стал сейчас под землей. Но разве станут эти руки милые любимые темными корнями? И разве можно, чтобы в эти волосы волнистые пыль земляную заплели? И надо земляные языки учить, чтобы всё время говорить с подземными камнями и подружиться с насекомыми земли. Там длинно и темно под землей. И маленький мальчик среди слабого летнего света, едва живого. Там очень холодно зимой. Почему ты молчишь? Подай весточку о себе; скажи, что ты не мучаешься…
Спускаюсь по лестнице — темно — как подвал. Земляные переходы — много людей — скелеты и еще почти люди. Найду тебя — ты прижался в углу, стоишь, далеко от гроба. Знаю, что ты; в темноте не вижу — какой ты стал. Но знаю — маленький мальчик. Прижимаю палец к губам. На тебя нельзя смотреть, я знаю. Сначала кости. На спину. Ты обхватил меня ручками за шею, жестко и больно твои косточки царапают. Свет будто начинает просачиваться. Теплые детские ручки, дыхание — царапины на шее не болят. На спине ребенка легко нести. Быстро иду. Ветер холодный и темный. Одна болезнь начинает бежать за нами. Ты, когда живой был, рассказывал, как ты одну болезнь понял; она изнемогла, оттого что ты стал знать и любить ее; и ты тогда задушил ее, и у тебя от этого была радость чресл. Но я не могу найти, как выйти. Такое отчаяние. Но вот, нашла. Сначала с маленьким очень хорошо идти. Но он вырастать начинает, быстрее и быстрее. Я знаю, что нельзя останавливаться. Но тяжелее и тяжелее. Не могу нести взрослого. Большого я не могу нести. Тяжело. И он не хочет, чтобы я несла его. Не может мне помочь. Но разве он не любит меня? Он встал за моей спиной и руки положил на мои плечи, но уже чуть касаются его ладони. Какое отчаяние мое. Как я скажу ему, что я ведь ничего не хочу от него, только унести его отсюда… А он сам хочет идти, без меня. Но он же не знает дорогу! Я знаю, что надо нести его. Но очень тяжело. Я останавливаюсь и невольно говорю: «Как мне тяжело с тобой!» Сразу все исчезает. Ведь несчастье, оно в том, что приходится возвращаться в ту жизнь, где ничего нельзя переменить…
Прости меня. За все твои мучения. За то, что тебе плохо было в жизни. Я люблю тебя, и потому я виновата во всем. Прости меня…
Вот если бы так было — человек уходит в землю, чтобы вырасти опять. Вот лето наступило, и на могиле маленький сидит кудрявый мальчик. Вырос из земли и тянет ручки.
— Пойдем домой, — он говорит.
И я несу его на руках…[9]
Так говорила семь дней. Потому что семь дней положено оплакивать умершего. Семь дней на полу и в разорванной одежде…
Теперь о том, что было с жителями города.
Когда Андреас всю ночь ходил среди людей Риндфлайша, от человека к человеку; многие в городе поднялись на стены и вглядывались вдаль. Не было понятно, что происходит с людьми Риндфлайша. И многими в городе овладело недоверие. Многие разочаровались. Одни ушли спать, другие остались охранять город.
Всю ночь Андреас ходил среди людей Риндфлайша. Говорил с каждым внимательно. Каждому отдавал свою душу.
И войско Риндфлайша рассеялось, люди его ушли.
Только один Раббани осознал, что это дело Андреаса. Сафия много раз спрашивала себя, почему отец не помог Андреасу. Или нельзя было так резко спрашивать об отце (даже себя нельзя было так спрашивать): почему не помог? Или возможно было несколько ответов? Первое, конечно, было то, что отец все-таки был всего лишь человек; и, значит, многого не знал и многого не мог, и был подвержен разного рода случайностям. И если бы отец что-то мог, разве не сделал бы для себя и для Сафии? Но нет, всё не было так просто и легко. Отец мог и не мог, он был свободен и что-то сковывало его. Отец был подвержен случайностям, он многого не мог предусмотреть, предугадать; но эти случайности были трагическими и, в сущности, они не были случайными. Она знала, что в сущности она и есть она; она убеждала себя в том, что она — это не только она, та, которая существует сейчас, здесь, но и еще что-то другое, еще какая-то другая она; но полной уверенности все же не было. Но отец ясно чувствовал и знал себя другого, у отца была полная уверенность… Почему отец не спас Андреаса? Или он должен был дать Андреасу умереть; для того, чтобы потом снова сделать Андреаса живым, но уже здоровым, избавленным от болезни? И что-то не соединилось, трагическая случайность произошла, предощущение отца оказалось ложным? Она вспомнила один из рассказов о Христе. Когда ему прислали весть о том, что его друг Лазарь болен, Христос не пошел к нему сразу, а ждал, пока Лазарь умрет. Потому что он должен был не вылечить Лазаря, а воскресить. Значит, сделать иным, избавить от чего-то, что-то дать?.. Но как же эти предсмертные мучения? Как можно выносить мучения друга, близкого человека? И знать, что ты можешь вылечить… Мучения Андреаса… Как же он мучился, без помощи… Но все эти ее размышления такие путанные, тягостно-мучительные, и, по сути, заводящие в тупик…
Отец сидел в ее комнате, на низком табурете, как сидел обычно Андреас. Она сидела на полу, поджав под себя ноги, совсем близко к отцу.
— Он будет живым снова, когда-нибудь? Я увижу его тогда? — спросила она с такими тихими слезами, и голос ее чуть прерывался.
— Увидишь, — отвечал отец, и в голосе его была тихая уверенность.
— И тебя, и маму? — спросила она, как маленький ребенок, которому нужны близкие.
— Да. И многих увидишь…
Он замолчал. И она подумала, ведь это он просто не решается сказать ей, что она будет несчастна.
— Но когда-нибудь я буду счастлива, хотя бы немного? — спросила она. И ей показалось, что она хочет этим вопросом больше утешить отца, чем себя.
— Будешь, — отец отвечал тихо и подкрепил свои слова кивком…
И отец сказал, что и Андреас будет счастлив. Но когда это будет? Время пойдет назад или вперед? Или рассеется как-то, пойдет как-то странно и непривычно? И люди бредут во времени, забывая себя, и жадно впивая мгновения того, что чувствуют счастьем…
Как поняли все, что это Андреас рассеял войско Риндфлайша? Кто сказал об этом? Раббани сказал? Или кто-то из уходивших людей Риндфлайша? Но вот уже в городе знали о том, что сделал Андреас. И никто не объяснял, сами вдруг поняли, что ему теперь очень плохо, что ему нужна помощь, что за это спасение города он отдал себя…
Но когда ночью пришли к его дому, увидели его мертвым на мостовой.
Сын Риндфлайша ушел, оставив оружие и бросив награбленное. И все люди Риндфлайша ушли с пустыми руками. На равнине остались палатки и всё брошенное. И поодаль от дороги и у монастыря были темные пятна большие на месте костров. Городские ворота открылись и вышли жители города. Бродили молча и не решаясь прикоснуться ко всему оставленному, брошенному. Никто не знал, чье это; всё это некому было возвращать, можно было только взять себе; но на это не поднимались руки, даже у самых бедных. И вдруг разожгли снова костры, и стали молча бросать, метать всё в огонь, стали жечь палатки. Много темного и серого дыма поднялось к небу. И вот уже ничего не было, и дыма не было. И снег пошел.
Какое-то время город был охвачен странным воодушевлением. Подобное сильное воодушевление долго продлиться не может; и нельзя осуждать людей за то, что оно не длится долго; но оно было.
Молиться о самоубийцах нельзя, но во всех городских церквах читались молитвы об упокоении души умершего и люди молились об упокоении его души. Все христианские обряды были на похоронах.
У иудеев самоубийцу поминать можно. В еврейском квартале молились о душе Андреаса, который ушел в мир свой, и душа его — душа праведного.

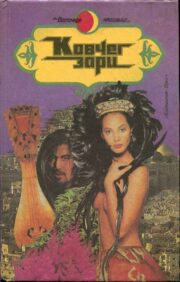
"Наложница фараона" отзывы
Отзывы читателей о книге "Наложница фараона". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Наложница фараона" друзьям в соцсетях.