До войны она заподозрила бы, что тут замешана женщина. Месяц назад, сразу после сцены у зеркала, она ожидала мести, какой-нибудь жестокой дикарской выходки, ядовитых слов, брошенных в лицо. Но нет… ничего не произошло… Спокойный, безмятежный, он вёл по-прежнему кочевую жизнь, замкнутый в своей свободе, как узник в застенке, и аскетичный, как зверек, привезённый от антиподов, который даже не ищет себе самку в нашем полушарии.
«Болен?..» Он хорошо спал, ел в своё удовольствие – то есть немного, подозрительно обнюхивая мясные блюда и предпочитая фрукты и яйца. Никакой нервный тик не нарушал гармонии его красивого лица, и пил он больше воды, чем шампанского. «Нет, он не болен. И всё-таки… с ним что-то не так. Что-то, что я наверняка разгадала бы, если бы по-прежнему была в него влюблена. Но…» Она снова поправила кружева на вырезе, вдохнула ароматный жар, поднимавшийся от её груди, и, склонив голову, увидела сквозь ткань платья две одинаковые лиловато-розовые медальки. Она вспыхнула от сладострастного предчувствия и мысленно посулила этот аромат, эти розовые тени рыжеволосому человеку, расторопному и снисходительному, с которым ей предстояло встретиться через час.
«Они каждый день при мне говорили о Леа, и я не слышал. Значит, я её забыл? Значит, забыл. Но что такое забыть? Когда я думаю о Леа, я ясно вижу её, вспоминаю её голос, духи, которыми она душилась, втирая их в кожу длинными мокрыми пальцами…» Он втянул носом воздух, подняв губы к носу с выражением плотоядного удовольствия.
– Фред, ты состроил чудовищную гримасу, точь-в-точь как та лиса, которую Анго поймал в окопах…
Это был наименее трудный момент их дня – время после завтрака. Взбодрённые душем, они с благодарностью слушали шум ливня, который неожиданно хлынул на три месяца раньше своего срока и, притворяясь осенним, срывал листья с деревьев и гнул к земле петуньи. Сегодня они не утруждали себя поисками оправданий для своего упрямого нежелания покинуть город на лето. Накануне Шарлотта Пелу дала этому исчерпывающее объяснение. Она провозгласила: «Просто у нас порода такая, парижская! Чистая, без примесей! Зато мы по-настоящему насладились первым парижским послевоенным летом – мы да консьержи».
– Фред, ты что, влюбился в этот костюм? Ты же его не снимаешь! У него уже несвежий вид.
Ангел поднял руку, как бы прося не шуметь и не отвлекать его внимания, сосредоточенного в эту минуту на сугубо умственной работе.
«Всё-таки интересно, забыл я её или нет? Но что такое забыть? За тот год, что мы с ней не виделись…» Его вдруг словно что-то ударило, он как будто проснулся и понял, что его память напрочь отринула войну. Он подсчитал годы и на миг онемел от изумления.
– Фред, неужели я никогда не добьюсь от тебя, чтобы ты оставлял бритву в ванной, а не приносил её сюда?
Ангел нехотя обернулся. Он был почти голый, и его влажное тело местами серебрилось от налипшего талька.
– Что-что?
В голосе, доносившемся будто издалека, послышался смех.
– Фред, ты похож на пирог, с которого осыпалась пудра! Довольно бледный пирог… В будущем году мы будем умнее. Купим загородный дом…
– Ты хочешь загородный дом?
– Да. Не сию минуту, конечно…
Закалывая волосы, она указала кивком головы на завесу дождя, лившего без ветра, без грома, сплошной серой стеной.
– В будущем году… Почему бы нет?
– Мысль хорошая. Очень хорошая.
Он говорил, чтобы отделаться от неё, вежливо отделаться и сосредоточиться на своём удивлении. «Мне казалось, что мы не виделись всего год. Я упустил из виду войну. Выходит, прошло – один, два, три, четыре, пять – пять лет, как мы не виделись. Один, два, три, четыре… Значит, я всё-таки забыл её? Нет, потому что они при мне говорили о ней, а я ни разу не подскочил и не вскрикнул: "Как же, как же! Леа! Как она там?" Пять лет… А сколько ей было в четырнадцатом?»
Он снова принялся считать и упёрся в немыслимую цифру. «Получается, что ей сейчас около шестидесяти… Какой бред!..»
– Главное, – продолжала Эдме, – это правильно решить, где покупать. Изумительные места в…
– Нормандии, – машинально подхватил Ангел.
– Да, в Нормандии… Ты хорошо знаешь Нормандию?
– Нет… В общем, нет… Там много зелени. Липы… озёра…
Он прикрыл глаза, словно у него закружилась голова.
– А где? В какой части Нормандии?
– Озёра, сливки, клубника и павлины…
– Вот видишь, сколько ты всего знаешь! Райские края! А что ещё там есть?
Казалось, он читает свои ответы, склонясь над круглым зеркалом, перед которым обычно проверял по утрам, чисто ли он выбрит. Он продолжал, безвольно и неуверенно:
– Павлины… Луна на паркете и большой-большой красный ковёр в аллее…
Не договорив, он слегка качнулся и соскользнул на ковёр. Край кровати задержал его падение, и он уронил на смятые простыни бесчувственное лицо, которому бледность в сочетании с загаром придавала зеленоватый оттенок слоновой кости.
Почти в ту же секунду, не вскрикнув, Эдме очутилась рядом с ним на полу, подхватила отяжелевшую голову, поднесла к обескровленному лицу открытый флакон, но слабеющие руки оттолкнули её:
– Оставь меня… Ты же видишь, я умираю.
Однако он не умирал, и рука его, которую держала Эдме, оставалась тёплой. Он пробормотал это едва слышно, с торжественностью и упоением юных самоубийц, которые искали смерти и избежали её.
Губы его чуть приоткрылись над сверкающими зубами, и он задышал ровнее. Но оживать окончательно не спешил. Он хотел укрыться за опущенными ресницами в плоской зелёной местности, о которой говорил в момент обморока, в краю, где так много клубники, пчёл и белых кувшинок в окаймлённых тёплым камнем водоёмах… Силы уже вернулись к нему, но он всё ещё не поднимал век, думая про себя: «Если я открою глаза, Эдме увидит в них всё, что вижу я…»
Жена по-прежнему стояла на одном колене, склонившись над ним. Она была сосредоточенна, действовала профессионально и толково. Свободной рукой она дотянулась до газеты и принялась обмахивать его запрокинутое лицо. Она шептала ничего не значащие, но нужные фразы:
– Это от перемены погоды… Расслабься… Нет-нет, не вставай. Подожди, я подложу тебе подушку…
Он приподнялся, улыбнулся, благодарно сжал ей руку. Во рту у него пересохло, хотелось лимона, чего-то кислого. Телефонный звонок отвлёк Эдме.
– Да… Да… Что? Я знаю, что уже десять! Да. Что? По её отрывистым, властным ответам Ангел понял, что звонят из госпиталя.
– Да, разумеется, я приеду. Что? Через…
Эдме бросила быстрый оценивающий взгляд на воскресшего Ангела.
– Через двадцать пять минут. Спасибо. До встречи.
Она распахнула настежь балконную дверь, и несколько капель мерного дождя залетели в комнату, принеся с собой речной запах прели.
– Фред, тебе лучше? Что с тобой было? Сердце в порядке? У тебя, наверно, не хватает фосфора в организме. Вот результат нашего дурацкого лета. Но, что ты хочешь…
Она взглянула украдкой на телефон, словно на свидетеля.
Ангел без видимого усилия встал на ноги.
– Беги, крошка. А то опоздаешь. Со мной уже всё нормально.
– Дать тебе слабого грогу? Или чашку горячего чаю?
– Не беспокойся… Ты очень добра. Да, пожалуй, чаю. Попроси, чтоб мне принесли, когда будешь уходить.
Через пять минут она ушла, окинув его взглядом, исполненным, как ей казалось, одного лишь участия, но на самом деле тщетно искавшим правду, объяснение необъяснимым вещам. Хлопнула дверь, и этот звук словно освободил Ангела от пут, он потянулся, почувствовал внутри лёгкость, холод и пустоту. Он быстро шагнул к окну и увидел, как жена идёт через палисадник, пригнув голову под дождём. «У неё спина грешницы, – заключил он, – у неё всегда была спина грешницы. Спереди это весьма благопристойная особа. Но спина выдаёт её. Она потеряла целых полчаса из-за моего обморока. Однако вернёмся к нашим баранам, как выразилась бы моя матушка. Когда я женился, Леа был пятьдесят один год – и это самое малое, как утверждает госпожа Пелу. Значит, сейчас ей должно быть пятьдесят восемь, а то и все шестьдесят… Столько же, сколько генералу Курба? Не может быть!.. Смех, да и только!»
Он попытался представить себе шестидесятилетнюю Леа с седыми закрученными усами генерала Курба, с его морщинистыми щеками и походкой довоенной извозчичьей лошади.
«А самое забавное…»
Неожиданное появление госпожи Пелу застало Ангела за этими сопоставлениями, бледного, неподвижно созерцающего залитый дождём сад, с потухшей сигаретой во рту.
– Что-то вы сегодня рано встали, дорогая матушка, – сказал он.
– А ты, по-моему, встал с левой ноги, – отвечала она.
– Это вам кажется. Надеюсь, для вашей неугомонности имеются, по крайней мере, смягчающие обстоятельства?
Она возвела глаза к потолку и пожала плечами. Её мальчишеская спортивная каскетка прикрывала козырьком лоб.
– Бедный малыш, – вздохнула она, – если б ты знал, что я затеяла… Какое грандиозное предприятие…
Ангел внимательно разглядывал на лице матери глубокие складки, обрамлявшие в виде кавычек её рот, дряблую волну второго подбородка, которая то отступала, то набегала вновь на воротник непромокаемого пальто. Он мысленно взвешивал дрожащие мешки под нижними веками и повторял про себя: «Пятьдесят восемь… Шестьдесят…»
– Ты знаешь, какому делу я сейчас посвящаю себя целиком?
Выдержав паузу, она ещё шире открыла свои огромные глаза, подведённые чёрным карандашом.
– Я решила возродить термы в Пасси. Термы в Пасси! Тебе, конечно, это ничего не говорит. Там по-прежнему есть источники, совсем рядом, под улицей Рейнуар. Они дремлют, надо их только пробудить. Очень сильные целебные источники. Если мы сумеем взяться за дело как следует, это будет крах Юриажа, полное разорение Мон-Дора,[3] но пока это ещё мечты! Я уже заручилась поддержкой двадцати семи швейцарских врачей. Муниципальный совет Парижа, обработанный Эдме и мной… Кстати, я по этому поводу и приехала и разминулась с твоей женой на пять минут… Что с тобой? Ты меня не слушаешь?

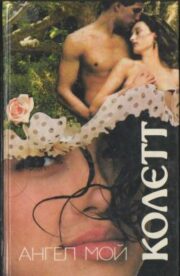
"Конец Ангела" отзывы
Отзывы читателей о книге "Конец Ангела". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Конец Ангела" друзьям в соцсетях.