На протяжении многих дней, которые он перестал считать, он ежевечерне приходил в это тёмное логово, где ждала его порабощённая Парка. Он оплачивал без особой охоты, но и без возражений стол, кофе и напитки Подружки, равно как и свои собственные запасы сигарет, льда, фруктов и сиропов. Он велел своей рабыне купить для него роскошное японское кимоно, благовония, тонкое мыло. Ею владела не столько алчность, сколько упоение сообщничеством, она служила Ангелу с усердием, в котором оживало её рвение прежних лет, восторженная и преступная готовность раздеть и выкупать девственницу, нагреть крупинки опиума, налить спиртное или эфир. Но самоотверженность её пропадала втуне, ибо её странный гость не приводил женщин, пил одни сиропы и, ложась на старый диван, коротко командовал:
– Рассказывай!
Она начинала говорить, и ей казалось, будто она рассказывает что ей вздумается. На самом же деле он направлял – то грубо, то незаметно – мутный и медлительный поток её воспоминаний. Она говорила словно швея-подёнщица – без остановки, с дурманящей монотонностью, как женщины, занятые однообразной сидячей работой. Но она никогда не шила, обнаруживая аристократическую беспечность бывшей проститутки. Не переставая говорить, она закалывала складку на дырке или на пятне и вновь принималась работать над гадальными картами или над пасьянсом. Она надевала перчатки, чтобы размолоть кофе, купленный приходящей прислугой, но не брезговала брать в руки засаленные карты, потемневшие от грязи.
Она говорила, и Ангел слушал усыпительный голос, шарканье ног в мягких войлочных шлёпанцах. Он возлежал в роскошном халате посреди запущенного жилища. Сиделка его не осмеливалась задавать вопросы.
В его аскетизме она угадывала мономанию, и ей этого было довольно. Она врачевала некий недуг – загадочный, но всё же недуг. На всякий случай и как бы для проформы она пригласила хорошенькую молодую особу, похожую на девочку и профессионально весёлую. Ангел обратил на неё не больше внимания, чем на комнатную собачку, и сказал Подружке:
– Надеюсь, теперь колонка светской хроники закрыта?
Больше ему не пришлось отчитывать её и призывать к соблюдению тайны. Однажды она вдруг оказалась недалека от банальной истины и предложила Ангелу позвать в гости одну или двух подруг добрых старых времён – например, Леа… Он и глазом не моргнул.
– Никого! Иначе ноги моей здесь не будет. Прошли две недели, мрачные, размеренные, как в монастыре, но это не было в тягость ни одному из затворников. День у Подружки занимали старушечьи развлечения: покер, виски, подпольные притоны, перемывание косточек, завтраки в духоте и полумраке какого-нибудь ресторанчика с лиможской или нормандской кухней… Ангел появлялся с первыми сумерками, иногда насквозь промокший от дождя. Подружка слышала, как хлопала дверца такси, и уже не спрашивала: «Почему же ты всегда без машины?»
Уезжал он за полночь, обычно ещё в темноте. Во время его долгих пребываний на алжирском диване Подружка иногда замечала, как он проваливается в сон и на несколько секунд застывает, словно пойманный в капкан, со свёрнутой шеей, уронив голову на плечо. Сама она, забыв об отдыхе, ложилась спать только после его ухода. Однажды на рассвете, пока он не спеша складывал обратно в карманы свои вещи – ключ на цепочке, бумажник, маленький плоский револьвер, носовой платок, золотой портсигар, – она отважилась спросить:
– Жена не требует у тебя объяснений, когда ты так поздно приходишь?
Ангел поднял увеличенные бессонницей глаза, затемнённые длинными ресницами.
– Нет. С чего бы? Она же знает, что я ничего дурного не делаю.
– Да уж, ты и вправду невинен как дитя… Ты придёшь вечером?
– Не знаю. Посмотрим. Но ты будь готова к моему приходу.
Он бросал последний взгляд на все эти светловолосые головки и голубые глаза, украшавшие стену его убежища, и уходил, чтобы снова возвратиться к вечеру.
Когда он – как ему казалось, очень ловко – наводил разговор на жизнь Леа, он исправно очищал повествование Подружки от скабрёзного мусора, который создавал лишние длинноты. «Дальше, дальше…» Он цедил эти слова сквозь зубы, и только шипящий звук «ш» нарушал и подхлёстывал монолог. Ангел хотел получать воспоминания без яда, безобидные описания и славословия… Он требовал от мемуаристки документальной верности фактам и сердито уличал её в неточности. Память его фиксировала даты, расцветки, названия тканей, мест, имена портных.
– Что такое поплин? – вдруг спрашивал он.
– Поплин? Эта такая материя, шёлк с шерстью, сухая, понимаешь, которая не льнёт к телу…
– Ясно. А мохер? Ты сказала: «из белого мохера».
– Мохер – это что-то вроде альпака, только мягче и с более длинным ворсом, представляешь себе?.. Леа не любила носить летом линон, она считала, что он хорош для белья и для носовых платков. Бельё у неё было королевское, ты, наверно, помнишь, а в те времена, когда сделана эта фотография – да-да, вон та, где она такая красивая и длинноногая, – не носили такого плоского белья, как сейчас. Кругом были рюши, оборки, пена, снег, а панталоны, милый мой, панталоны – голова шла кругом: по бокам сплошные белые кружева, а на животе – чёрные, представляешь себе, как эффектно? Нет, ты скажи, представляешь?
«Какая мерзость! – думал Ангел. – Мерзость! На животе чёрные кружева! Женщина не носит чёрные кружева на животе просто так, для себя. Перед кем она в них расхаживала? Для кого надевала?»
Ему вспомнился жест Леа, торопливо запахивавшей пеньюар, когда он входил неожиданно в ванную или будуар. Он вспомнил целомудренное спокойствие розоватого тела в ванне, надёжно скрытого от глаз матовой водой, белой от ароматических эссенций…
«А для других – панталоны с чёрными кружевами…»
Он поддал ногой и сбросил на пол одну из ковровых подушек.
– Тебе жарко, Ангел?
– Нет. Передай-ка мне, будь добра, вон ту большую фотографию в рамке… Поверни ко мне настольную лампу. Ещё… Так!
Забыв обычную осторожность, он зорко и внимательно всматривался в детали, которые были для него новостью, чуть ли не открытием.
«Высокий пояс с камеями… Никогда у неё такого не видел. И котурны, как в древней Греции. Она в чулках?.. Нет, конечно, – пальцы на ногах голые… Отвратительно…»
– Куда она ходила в этом костюме?
– Точно не помню… Кажется, это был вечер в клубе… Или у Молье…
Он протянул ей фотографию кончиками пальцев с пренебрежительным и скучающим видом. Вскоре он заторопился домой и отправился в путь под ещё не раскрывшимся небом, на исходе ночи, пахнущей дымом и прачечной.
Ангел не замечал, как сильно он изменился. Оттого, что он мало ел и спал, много курил и ходил пешком, он исхудал, его крепкая стать сменилась лёгкостью, обманчивой юностью, которую изобличал дневной свет. Дома он вёл себя как хотел, мирясь с присутствием гостей или избегая их, как случайных прохожих, которым были известны лишь его имя да красота, постепенно словно окаменевшая и как бы подправленная заостряющим черты резцом, и удивительная непосредственность, с которой он их игнорировал.
Так он нёс до последних дней октября своё спокойное и педантичное отчаяние. Его насмешило однажды невольное движение жены, в котором он уловил желание обратиться в бегство. Его вдруг охватило веселье человека, осознавшего собственную неуязвимость: «Она считает меня сумасшедшим, какая удача!»
Но веселье его было недолгим, ибо он рассудил, что если выбирать между сумасшедшим и циником, то преимущество на стороне циника. От сумасшедшего Эдме бежала прочь, но разве не осталась бы она, кусая губы и глотая слёзы, рядом с циником, чтобы его приручить?
«Меня даже не считают больше циником, – подумал он с горечью. – Я и в самом деле перестал им быть. Ах, что сделала со мной эта женщина, которую я покинул. Хотя её бросали и другие, и она кого-то бросала… Как живут сейчас Баччиокки, Сетфон, Спелеев, все остальные?.. Но что общего между остальными и мной?.. Она дразнила меня «мещанином», потому что я пересчитывал бутылки у неё в погребе. Да, мещанин, верное сердце, пылко влюблённый – вот мои имена, мои подлинные имена, а она, она, которая вся лоснилась от слёз, когда мы расставались, она теперь предпочитает мне старость и считает на пальцах, сидя у огня: "У меня был такой-то, потом такой-то, потом Ангел, потом имярек…" Я думал, она моя, и не понимал, что был всего лишь одним из многих. Ну как после этого не краснеть за род человеческий?»
Всю жизнь упражняясь в искусстве владеть собой, он терпел своё странное бедствие под маской бесстрастия, словно одержимый, который стремится быть достойным владеющего им демона. Надменный, с сухими глазами, крепко держа зажжённую спичку недрожащими пальцами, он искоса наблюдал за матерью, которая, он чувствовал, наблюдала за ним. Закуривая, он как бы рисовался перед невидимой публикой, готовый с невинным видом бросить своим мучителям дразнящее «В чём дело?» Сила, которая приходит от необходимости таиться и сопротивляться, с трудом зарождалась в глубине его существа, и он упивался своей непоколебимой невозмутимостью, смутно чувствуя, что взрыв мог бы принести успокоение и подсказать решение, не достижимое в спокойствии. Ребёнком Ангел не раз доводил притворные капризы до припадков неподдельного гнева. Сейчас он был на грани полного отчаяния и лишь от этого отчаяния, казалось, ждал развязки…
Осенний день, исхлёстанный непрерывным ветром и мокрыми листьями, горизонтально летевшими над землёй, день разбрызганных дождевых капель и голубых трещин в небе, манил Ангела в его тёмное убежище, к служанке в чёрном одеянии с белым пятном на груди, как у помоечных кошек. Он чувствовал лёгкость, и ему не терпелось услышать тайны, приторные, как плод земляничного дерева, и окружённые такими же шипами. Он заранее баюкал себя словами и фразами, обладавшими загадочным целебным действием: «…и её вензель, вышитый на белье волосами – да-да, детка, волосами с её белокурой головки. Только феи могли такое создать! Массажистка выдёргивала ей волосы на икрах пинцетом, по одному…»

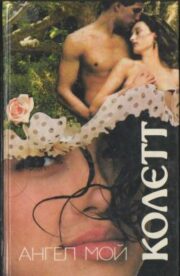
"Конец Ангела" отзывы
Отзывы читателей о книге "Конец Ангела". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Конец Ангела" друзьям в соцсетях.