– Кого?
– Да свою квартирку!
Он озадаченно посмотрел на Подружку. Обставить? Чем? Он мечтал только об одном: иметь убежище, куда не приходил бы ни один человек, кроме него самого, в таком месте, о котором не знали бы ни Эдме, ни Шарлотта, никто…
– Ты предпочитаешь современный стиль или старинный? Красавица Серрано обтянула свой первый этаж ни много ни мало испанскими шалями, но это чересчур экстравагантно. Впрочем, ты уже взрослый и сам знаешь, что тебе надо…
Ангел едва слушал её, поглощённый попытками представить себе своё будущее тайное жилище, тесное, тёплое и тёмное. Он потягивал смородиновый сироп, как барышни довоенной поры, сидя в красноватом баре, старомодном и неизменном, оставшемся точно таким, как в те времена, когда Ангел ребёнком посасывал здесь через соломинку водичку с соком… Не менялся и сам бармен, а сидящую напротив него увядшую женщину Ангел никогда и не знал молодой и красивой…
«Моя мать, моя жена, их знакомые – весь этот круг меняется и живёт для того, чтобы меняться… Моя мать может сделаться банкиршей, а Эдме – муниципальным советником. А я…»
Он поспешил вернуться к мыслям о своём будущем пристанище, находящемся в неизвестной точке пространства, но которое будет тайным, тесным, тёплым и…
– У меня дома всё в алжирском стиле, – продолжала Подружка. – Это уже не модно, но мне всё равно, тем более что мебель мне отдали. Я расставила там всякие памятные вещи, развесила фотографии добрых старых времён – ты наверняка их видел, – в том числе и портрет Малышки… Приходи посмотреть, мне будет очень приятно.
– С удовольствием. Поехали!
Ангел с порога подозвал такси.
– Ты опять без машины? Почему? Это всё-таки поразительно: люди, у которых есть машины, никогда на них не ездят!
Она подобрала свою поношенную чёрную юбку, защемила шнурок лорнета замочком сумки, уронила перчатку, с негритянской невозмутимостью игнорируя взгляды прохожих. Ангел получил из-за неё не одну оскорбительную улыбку и сострадательное восхищение молодой женщины, громко воскликнувшей: «О Боже, какое сокровище зря пропадает!»
В автомобиле он сквозь дремоту слушал болтовню старухи. Она рассказывала ему сладостные истории про собачку, весившую меньше килограмма, которая в 1897 году сорвала скачки, про баронессу де Ла Берш, в девяносто третьем похитившую невесту прямо со свадьбы…
– Приехали. Открой мне дверцу, Ангел, а то её, кажется, заело. Предупреждаю тебя, вестибюль у нас не освещается. Как видишь, и вход тоже… Но квартира… Постой здесь минутку…
Ангел стоял в темноте и ждал. Он прислушивался к позвякиванию связки ключей, к пыхтению страдающей одышкой старухи, говорившей голосом хлопотливой прислуги.
– Сейчас я включу свет… Ты попадёшь в знакомую атмосферу. Само собой, тут есть электричество. Позволь показать тебе мою маленькую гостиную, которая одновременно и моя большая гостиная.
Он вошёл, из вежливости, не глядя, похвалил комнату с низким потолком и тускло-вишнёвыми стенами, потемневшими от дыма выкуренных здесь бесчисленных сигар и сигарет. Ангел инстинктивно огляделся в поисках окна, закрытого ставнями и занавесками.
– Тебе темно? Да, ты ведь не старая сова, как я… Подожди, я зажгу верхний свет.
– Не стоит… Я на минутку и…
Взгляд Ангела упал на наименее тёмную стену, сплошь увешанную фотографиями в рамках и просто держащимися на кнопках. Он осёкся и замолчал. Подружка рассмеялась:
– Я же говорила, ты попадёшь в знакомую атмосферу. Я была уверена, что ты не пожалеешь. У тебя такой нет?
Перед ним был большой фотопортрет, подмалёванный выцветшей акварелью. Голубые глаза, смеющийся рот, шиньон из светлых волос, спокойный взгляд не слагающей оружия победительницы… Высокая талия в стиле наполеоновских времён и просвечивающие сквозь газовую ткань ноги, ноги бесконечной длины, округлые наверху, тонкие в коленях… И щегольская шляпа с полями, заломленными с одной стороны, словно одинокий парус, надувшийся от ветра…
– Держу пари, что такой у тебя нет. Леа тут настоящая фея, богиня! Небожительница! И в то же время какое сходство! По-моему, это самая лучшая её фотография, но мне нравятся и другие. Вот, например, эта, поменьше. Взгляни, она более поздняя. Ну разве не чудо?
На моментальном фотоснимке, приколотом к стене ржавой булавкой, темнела женская фигура на фоне светлого сада…
«Это же её тёмно-синее платье и шляпа с чайками!» – подумал Ангел.
– Я лично за лестные портреты, – продолжала Подружка, – вроде вот этого. Скажи по совести, ну как тут не упасть на колени и не уверовать в Бога?
Пошлое, сусальное художество подсластило «фотооткрытку», удлинило шею, чуть уменьшило рот. Зато нос с небольшой горбинкой, восхитительный нос, его победоносные крылья и чистая целомудренная складка, мягкая бороздка над верхней губой остались нетронутыми, даже ретушёр не посмел на них посягнуть.
– Веришь ли, она хотела всё это сжечь, потому что, видите ли, никому больше не интересно, какой она была когда-то! Во мне всё закипело, я стала кричать, как будто меня режут, и она мне их все отдала, а заодно подарила ридикюль со своим вензелем…
– Что это за тип с ней рядом?
– А? Что ты говоришь? Погоди, я уберу шляпу…
– Я спрашиваю, кто этот тип, вот здесь… Сколько можно копаться?..
– Боже мой, что за спешка? Где? Да это же Баччиокки! Конечно, ты не можешь его помнить, он был на два круга раньше тебя.
– Два – чего?
– После Баччиокки у неё был Сетфон, хотя нет, постой, Сетфон был раньше… Сетфон, потом Баччиокки, потом Спелеев, потом ты. Ха, как тебе нравятся эти панталоны в клеточку? Смешная была тогда мода у мужчин!
– А эта фотография какого времени?
Подружка, уже без шляпы, вытянула голову, и Ангел отступил в сторону – от её растрёпанной примятой причёски пахло париком.
– Это она на скачках в Отёйле – вижу по платью – в… восемьдесят восьмом или в восемьдесят девятом. Да, в год Международной выставки. Тут, мальчик мой, надо обнажить голову. Таких красавиц больше нет.
– Ну уж! Я вовсе не нахожу в ней ничего особенного.
Подружка стиснула руки. Без шляпы, с крашеными зеленовато-чёрными волосами над жёлтым открытым лбом она выглядела намного старше.
– Ничего особенного! Ты только посмотри на эту талию, которую можно обхватить пальцами! А лилейная шейка! А платье! Небесно-голубое, всё из шёлкового муслина, милый ты мой, со вздёржками, украшенными тесьмой с розочками, и такая же шляпа! И ещё такая же омоньерка – эти сумочки назывались «омоньерки»… Как хороша! У неё был незабываемый дебют, настоящая заря, восход солнца любви!
– Дебют в чём?
Подружка легонько толкнула Ангела в бок.
– Вот тебе и раз! Ну и насмешил ты меня! Ах, ты и вправду можешь скрасить закат жизни!..
Ангел отвернулся к стене, чтобы скрыть негодующее выражение лица. Он сделал вид, будто заинтересовался ещё несколькими Леа – одна из них нюхала искусственную розу, другая держала книгу со старинной застёжкой, склонив широкий затылок и гладкую шею без единой морщинки, белую и круглую, как ствол берёзы.
– Ну, что ж, я пошёл, – сказал он, как Валерия Шенягина.
– Как это, ты пошёл? А моя столовая? А спальня? Взгляни хотя бы, дитя моё! Может, тебе не подойдёт такая гарсоньерка?
– Ах да… Знаешь, не сейчас, дело в том, что…
Он с опаской покосился на бастион фотографий и понизил голос:
– У меня назначена встреча. Но я приду… завтра. Скорее всего, завтра, во второй половине дня.
– Ладно. Значит я могу считать, что всё в порядке?
– С чем?
– С квартирой.
– Да. Разумеется! Жди. И спасибо тебе.
«Не понимаю, ей-Богу, что за времена. Старики, молодёжь – все как будто соревнуются в гнусности… На два «круга» раньше меня… И ещё это словечко «дебют»… "Незабываемый дебют", как сказала старая паучиха. И всё это среди бела дня… Право, что за люди!..»
Он заметил, что взял спортивный темп и запыхался. Далёкая гроза, гремевшая в стороне от Парижа, отвесной лиловой стеной преградила путь малейшему ветерку. На укреплениях, на бульваре Бертье, немногочисленная толпа парижан в парусиновых туфлях и полуголых детей в красных майках, казалось, ждала под поредевшей от жары листвой, что от Леваллуа-Перре к ним вот-вот хлынет морской прибой. Ангел присел на скамейку, не задумываясь о том, что его здоровье, незаметно пошатнувшееся с тех пор, как он стал растрачивать его на бессонные ночи и пренебрегать едой и гимнастикой, подводит его теперь на каждом шагу.
«Два круга! Подумать только! За два круга до меня! А сколько после меня? А если сложить всех вместе, включая меня, то сколько же получится кругов?»
Он вспомнил Спелеева, высокого, широкоплечего, смеющегося, рядом с Леа, одетой в тёмно-синее платье, с чайками на шляпе. Вспомнил, как Леа, грустная, вся красная от слёз, гладила его, совсем ещё маленького, по голове и называла «противным мужчинкой».
Любовник Леа… Новое увлечение Леа… Ничего не значащие слова, привычные, как прогноз погоды, как результаты скачек в Отёйле, как мелкие кражи прислуги. «Пошли, малыш, – говорил Спелеев Ангелу, – выпьем портвейна в Арменонвиле и подождём Леа, я никак не мог вытащить её сегодня из постели».
«У Леа премиленький новый Баччиокки!» – объявила госпожа Пелу сыну, когда ему было лет четырнадцать-пятнадцать.
Но, испорченный и чистый одновременно, свыкшийся с существованием любви и ослеплённый её соседством, Ангел в ту пору говорил о любви, как дети, которые запоминают без разбора все слова, ласковые и скабрёзные, но усваивают лишь их звучание, за которым для них ничего не стоит. Никакие реалистические чувственные картины не возникали у него в голове при виде великана Спелеева, только что вставшего с постели Леа. А этот «премиленький новый Баччиокки» – разве была какая-то разница между ним и «чудненькой новой болонкой»?
Ни письма, ни фотографии, ни упоминания о прошлом, которые могли обладать достоверностью только в одних устах, – ничто никогда не проникало в тесный рай, где жили вместе Леа и Ангел на протяжении долгих лет. Почти ничего не было в жизни у Ангела до Леа – так могло ли его заботить, какие события до него вели его подругу к зрелости, печалили, обогащали.

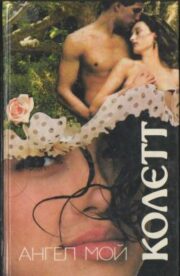
"Конец Ангела" отзывы
Отзывы читателей о книге "Конец Ангела". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Конец Ангела" друзьям в соцсетях.