Ангел очутился на улице, в плаще и шляпе, даже не заметив, как он их надел. Он оставлял позади освещённый холл, полный табачного дыма, смешанного с сильным запахом женских духов и цветов и парами шерри-бренди, отдающими синильной кислотой. Он уходил от Эдме, от доктора Арно, от всяких Филипеско и Аткинсов, от сестёр Келекиан, двух девиц из высшего общества, которые во время войны добровольно водили в армии грузовики и с тех пор не интересовались больше ничем, кроме сигар, автомобилей и шофёрских компаний. Он уходил от Десмона, сидевшего между торговцем недвижимостью и заместителем министра торговли, от одноногого поэта и Шарлотты Пелу. Молодая светская пара, видимо, особым образом осведомлённая, сидела за столом с видом чопорным и плотоядным, обмениваясь понимающими взглядами, в которых сквозило жадное и наивное ожидание скандала, словно Ангел вот-вот пойдёт танцевать голым или Шарлотта с заместителем министра начнут совокупляться прямо в холле на ковре.
Ангел уходил с сознанием, что вёл себя стоически, не допустил ни единого промаха, если не считать внезапной утраты связей с действительностью, неловкого отчуждения во время общей беседы за столом. Но это состояние длилось всего какой-то миг, неизмеримый в своей протяжённости, как сновидение. Теперь он уходил всё дальше и дальше от чужих людей, заполнивших его дом, и песок чуть поскрипывал под его ногами, словно под лёгкими лапами зверька. Серебристо-серый плащ на нём сливался с туманом, спустившимся на Булонский лес, и редкие любители ночных прогулок завидовали этому спешащему молодому человеку, который уходил в никуда.
Мысль о толпе гостей гнала его всё дальше и дальше от дома. В ушах у него всё ещё звучали их голоса, и он уносил с собой воспоминание об их лицах, улыбках и в особенности об очертаниях губ. Какой-то пожилой человек говорил о войне, какая-то женщина – о политике. Ему вспомнилось неожиданное взаимное расположение, возникшее между Эдме и Десмоном, и интерес, который его жена проявляла к каким-то земельным участкам… «Десмон… Какой из него вышел бы муж для моей жены!..» И потом эти танцы… Шарлотта Пелу и танго… Ангел ускорил шаг.
Преждевременная осенняя сырость туманила полную луну. Большое молочное пятно в бледном радужном ореоле белело на её месте и время от времени меркло, задыхаясь в клубах бегущих облаков. Среди прелой листвы, опавшей в жаркие дни, рождался сентябрьский запах.
«Как тепло!» – подумал Ангел.
Он устало опустился на скамейку, но просидел недолго, ибо вскоре к нему присоединилась невидимая соседка, с которой он не желал сидеть рядом. У неё были седые волосы, длинный жакет, и вся она звенела беспощадной музыкой весёлого смеха… Ангел посмотрел в сторону садов Ла Мюэт, как будто мог слышать оттуда, издалека, тарелки джаз-банда.
Ещё рано было возвращаться в голубую комнату – наверно, две юные девицы из высшего общества всё ещё курили там дорогие сигары, плюхнувшись на голубой бархат кровати, и развлекали торговца недвижимостью армейскими анекдотами.
«Мне бы спокойную комнату в отеле, обыкновенную розовую комнату, самую заурядную и самую розовую… Только не утратит ли она свою заурядность, когда свет будет погашен и темнота впустит туда толстую смеющуюся гостью в длинном унылом жакете, с непослушными седыми волосами?» Он улыбнулся своему видению, ибо уже преодолел этот страх: «Там ли, здесь ли… Она всё равно ко мне явится. Но с этими людьми я больше жить не хочу».
День ото дня, час от часу в нём росло презрение и непримиримость. Он теперь строго судил героев отдела происшествий в газетах и молодых послевоенных вдов, требовавших себе новых мужей, как воды на пожаре. Его принципиальность незаметно распространилась и на денежные вопросы, хотя он сам и не сознавал столь важной перемены в себе. «Сегодня за обедом… Эти корабли с кожами… Провернули-таки махинацию… Какая мерзость! И они не стесняются говорить об этом вслух!» Но ни за что на свете он не стал бы возмущаться публично, чтобы, не дай Бог, не выдать себя, не показать всем, что у него нет больше ничего общего с себе подобными. Из осторожности он скрывал это, как и всё остальное. Разве не напомнила ему кратко и недвусмысленно Шарлотта Пелу, когда он намекнул ей на то, что она весьма своеобразным способом перепродала несколько тонн сахара, о тех временах, когда он бросал развязным тоном: «Леа, дай-ка мне пять луидоров, я схожу за сигаретами».
«Ах, – вздохнул он, – никогда они ничего не понимают, эти женщины… То было совсем другое…»
Так он сидел и размышлял, без шляпы, с влажными волосами, почти растворившись в тумане. Перед ним промелькнул силуэт женщины. Резкий скрип каблуков по гравию был торопливым, тревожным, и вот уже женская тень метнулась к мужской тени, возникшей с другой стороны, прильнула, уронила голову, словно подстреленная.
«Эти двое скрываются, – подумал Ангел. – Кого они обманывают?.. Все кругом обманывают. А я…» Он не закончил мысль и вскочил на ноги, охваченный отвращением, смысл которого был совершенно ясен: «А я – чист». Слабый свет, постепенно проникавший в глубинные, неведомые ему до сих пор пласты и залежи, уже начал открывать ему, что чистота и одиночество – две стороны одного и того же несчастья.
Было уже поздно. Ангел озяб. Бодрствуя бесцельно и подолгу, он узнал, что ночные часы не похожи один на другой и полночь – это время тёплое по сравнению с часом, предшествующим рассвету.
«Скоро зима, – подумал он, ускоряя шаг. – Наконец-то мы разделаемся с этим бесконечным летом. Я хочу этой зимой… этой зимой…» Ему внезапно расхотелось строить планы, он сник и остановился, словно лошадь, издали увидевшая крутой подъём.
«Зимой по-прежнему будут моя жена, моя мать, старуха Ла Берш и все эти, как бишь их там зовут… В общем, все эти типы. И уже никогда для меня не будет..»
Он стоял и смотрел, как несётся над Булонским лесом вереница низких облаков, неуловимо отсвечивающих чем-то розовым, как ветер прибивает их к земле, корёжит, треплет, волочит за туманные лохмы по лужайкам, а потом снова уносит к самой луне. Ангел привычно любовался световыми феериями ночи, которую спящие считают чёрной.
Широкая и плоская луна, подёрнутая дымкой, выплыла из мчащихся клубов тумана, словно отгоняя их, чтобы проложить себе путь, но Ангел даже не заметил этого, погружённый в бессмысленную арифметику: он подсчитывал годы, месяцы, дни и часы драгоценного времени, упущенного навеки.
«Если бы тогда, перед войной, когда я к ней пришёл, я остался с ней, это было бы три, даже четыре хороших года, сотни и сотни выигранных дней и ночей, спасённых для любви…» Он не дрогнул от столь громкого слова.
«Несколько сотен дней жизни – той жизни, прежней. Жизни с моим заклятым врагом, как она себя называла… Ах, мой заклятый враг, ты прощала мне всё и не давала спуску ни в чём…» Он мял и теребил своё прошлое, выжимая из него остатки сока на бесплодную пустыню настоящего, воскрешал – а порой и выдумывал – своё царское отрочество под опекой двух больших и сильных женских рук, любящих и карающих. Долгое восточное отрочество в холе и неге, в котором наслаждение присутствовало, как паузы в песне… Роскошь, капризы, детская жестокость, бессознательная верность… Ангел вскинул голову к перламутровому диску, стоявшему в зените, и глухо воскликнул: «Всё пропало! Мне тридцать лет!»
Он заторопился домой, ругая себя под стук своих быстрых шагов. «Дурак! Самое ужасное – это не её возраст, а мой! Для неё, по-видимому, всё позади, а для меня…»
Бесшумно открыв дверь, он вошёл в дом, наконец-то затихший, и к горлу сразу же подступила тошнота от запаха тех, кто там недавно пил, ел и танцевал. Дверное зеркало в вестибюле показало ему похудевшего молодого человека с жёсткими выступающими скулами, красивым печальным ртом в чуть заметной синеве не бритых со вчерашнего утра щёк, с большими глазами, трагическими и настороженными, – словом, молодого человека, который неведомо почему больше не был двадцатичетырёхлетним.
«Для меня, – завершил Ангел свою мысль, – итог, по существу, ясен».
– Понимаешь, всё, что мне надо, – это спокойный угол… Небольшая квартира, гарсоньерка, любое пристанище…
– Я не маленькая, – обиделась Подружка.
Она возвела к потолку с лепными гирляндами безутешные глаза.
– Боже мой, немного грёз, чуть-чуть романтики и ласки для бедного мужского сердца… Как же не понять! У тебя есть пристрастие?
Ангел нахмурился.
– Пристрастие? К кому?
– Ты неверно меня понял, деточка. Пристрастие к каким-то определённым районам.
– А-а… Нет, мне всё равно. Любое тихое место.
Подружка закивала с понимающим видом.
– Ясно, ясно. Что-нибудь вроде моей квартирки. Ты знаешь, где я обитаю?
– Да…
– Ничего ты не знаешь. Я уверена, что ты так и не записал адрес. Улица Вилье, двести четырнадцать. Квартира небольшая, и район не особенно шикарный. Но вряд ли ты ищешь гарсоньерку, чтобы быть на виду?
– Нет, нет.
– Мне эта квартира досталась благодаря тому, что мы поладили с хозяйкой. Это не женщина, а просто чудо. Замечу в скобках, замужняя или вроде того. Прелестная птичка с сиреневыми глазами, но на лбу у неё печать рока, и карты мне уже открыли, что она ни в чём не знает меры и…
– Да, да… Ты сказала, что у тебя есть на примете кое-что для меня.
– Кое-что есть, но недостойное тебя.
– Ты так считаешь?
– Тебя… Вас!
Подружка многозначительно захихикала, пряча ухмылку в стакане виски с раздражающим запахом потной лошадиной сбруи. Ангел терпел её шутки по поводу своих несуществующих любовных похождений, потому что на её пористой шее белела нитка крупных полых жемчужин, которые были ему знакомы. Всякий живой след прошлого останавливал его на пути, по которому он незаметно спускался всё дальше вниз, и эти остановки дарили ему передышку.
– Ах, – вздохнула Подружка, – как бы мне хотелось хоть издали на неё взглянуть. Какая пара!.. Я её не знаю, но представляю себе вас вместе!.. Ты, конечно, хочешь её обставить?

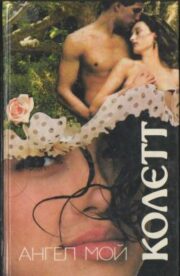
"Конец Ангела" отзывы
Отзывы читателей о книге "Конец Ангела". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Конец Ангела" друзьям в соцсетях.