Стелла Камерон
Его волшебное прикосновение
Глава первая
— Друг мой, грех, как и красота, режет глаза тому, кто наблюдает. — Джеймс Сент-Джайлс, он же граф Иглтон, смотрел не на своего спутника, а на шумную блестящую толпу, что заполнила в этот вечер до отказа Королевский театр Ковент-Гарден. Давали «Ромео и Джульетту».
Огромному смуглому человеку, который почти всегда находился под рукой у Джеймса, потребовалось, как обычно, время для ответа, и когда он заговорил, в его мягком голосе привычно прозвучала угроза:
— Без сомнения, вы скажете мне, кто автор сего мудрого изречения. — Вон Тель стоял в глубине ложи, скрытый тенью красных бархатных портьер. Черты его широкого, с высокими скулами, лица слабо освещались тусклым светом висевшей неподалеку лампы.
Джеймс потрогал средним пальцем нижнюю губу.
— Я узнал сие мудрое изречение от человека, мнению которого доверяю больше всего. Этот человек — я сам.
Хриплый смех Вон Теля бросил бы в дрожь большинство из тех, кто его услышал. Он дернул себя за роскошную черную бороду:
— Если это правда, а я в этом не сомневаюсь, то мир жалок, как я и предполагал, и мне от этого грустно.
— Ты, друг мой, лицемер. — Сент-Джайлс одарил своего слугу улыбочкой. — Ты преуспеваешь благодаря греху. И это, — он щелкнул пальцами в сторону беспокойной публики, битком набившейся в ложи и на балконы всех пяти ярусов, — это должно укрепить тебя во мнении, что английское общество в сущности достойно презрения. Тем более, пожалуй, что оно находится под влиянием нашего драгоценного регента. Что касается меня, то, по-моему, мне повезло: до сих пор мне удавалось оставаться в отдалении — на большом расстоянии.
Публика, казалось, едва замечала, что происходящее на сцене полно драматизма. Зрители предпочитали глазеть по сторонам и обмениваться жестами, каждый явно норовил превзойти остальных возмутительными выходками или экстравагантной одеждой. Джеймс делал вид, что не замечает ажиотажа, который вызывала его собственная персона: дамы лихорадочно обмахивались веерами, хихикали, а из соседних лож пытались заглянуть к нему с явной опасностью для жизни.
— Мы можем в любое время отказаться от этого вашего плана и вернуться на Пайпан, милорд, — сказал Вон Тель.
— Нет. Не раньше, чем я получу то, ради чего приехал в Лондон! — Повернувшись к своему собеседнику, Джеймс впился в него тяжелым взглядом своих серых глаз. — Этот мой план, как ты его называешь, — все, во имя чего я буду жить, пока он не будет выполнен, пока я не разделаюсь с ними — до конца! И запомни. Впредь до иного распоряжения не называй меня милордом. Я Джеймс Иглтон, судовладелец. Мой дядя Огастес наконец дал себя убедить и согласился, что я официально заявлю о принятии титула, но лишь когда сочту, что это принесет пользу. Не забывай: я приложил огромные усилия, чтобы заверить его, что в Англии не услышат ни слова о смерти моего отца или о моем родстве с ним. Будет очень жаль, если ты каким-нибудь неосторожным замечанием предупредишь врагов о моем присутствии. Забудь имя Сент-Джайлс и забудь мой графский титул — пока я не решу обрушить его, как топор, на шеи Дариуса и Мери Годвин.
Выражение лица Вон Теля не изменилось. Он поклонился, и стал виден верх его шапочки из такой же синей тяжелой шелковой ткани, как и куртка с высоким воротником, без каких-либо украшений, которую он носил поверх широких черных шаровар. На ногах у него были начищенные до блеска сапоги с высокими голенищами и без каблуков. Сапоги были специально сделаны так, чтобы их владелец мог передвигаться быстро и бесшумно (это обстоятельство было известно только Джеймсу и его врагам). К несчастью для последних, обнаружение этого факта неизбежно сопровождалось возмездием, в результате чего у жертвы пропадали желание или возможность высказаться по данному поводу.
Слуга выпрямился и сказал без всякого выражения:
— Что ж, мой долг в таком случае исполнен. Перед кончиной вашего отца я дал ему обещание постоянно напоминать вам, что, занимаясь даже самыми опасными делами, человек никогда не попадает в такую ситуацию, когда у него остается один-единственный способ действия.
Джеймс сжал в кулаки руки, лежавшие на коленях. Он чувствовал, как мускулы напряглись, словно пружины. Это чувство не оставляло его уже в течение месяца с того дня, как Френсис Сент-Джайлс умер от ран, полученных под колесами кареты.
— Здесь иного выбора нет. Все Годвины будут стерты в порошок. И я получу то, что мне принадлежит и что до меня по праву принадлежало моему отцу.
— Очень хорошо, — сказал Вон Тель. — Третья ложа слева — это то, что вы ищете, мистер Иглтон. — В этом же ярусе напротив.
Прищурив глаза, Джеймс наклонился вперед и схватил свой театральный бинокль:
— Надо было сразу же сказать мне, как только ты узнал.
— Я так и сделал, мистер Иглтон, — сказал Вон Тель своим обычным тихим голосом.
Джеймс твердо знал: спрашивать, откуда поступил сигнал, бесполезно.
— Ты говоришь, третья слева ложа? В этом ярусе?
— Совершенно верно.
— В той ложе только две особы женского пола. Где Годвин?
Вон Тель поднес бинокль к глазам:
— Девушка, должно быть, его дочь. Женщина…
— Женщина меня не интересует. Это, очевидно, какая-нибудь подруга. — Джеймс направил бинокль на девушку. — Не может быть, чтобы это была дочь Годвина. А та, другая, слишком молода, чтобы быть ее матерью. Проклятие! Твой осведомитель подвел… и меня тоже.
— Мистер Иглтон…
Джеймс остановил его жестом:
— Я рассчитывал на возможность установить контакт. Дело должно быть завершено быстро. Супруги Годвин обошлись мне дороже — обошлись моей семье дороже, — чем их жалкие жизни могут стоить.
— Однако вы намерены оставить им эту безделицу.
— О да, — сказал Джеймс мягко. — Я намерен сохранить им жизнь. Причина не в том, что они похожи на людей, способных на особую благодарность. Оставь меня и пойди узнай, что происходит. Я не вижу смысла оставаться в этом цирке, раз Дариуса и Мери Годвин здесь нет.
Не говоря ни слова, Вон Тель исчез за портьерой. Джеймс на мгновение остановил взгляд на несчастных актерах, затем вновь занялся противоположной стороной, переводя бинокль с одной ложи на другую…
— Нас сбили с толку, мистер Иглтон, — сказал Вон Тель, проскользнувший назад за его спиной. — Супруги Годвин еще не вернулись в Лондон.
— Что?
— Супруги Годвин еще…
— Я слышал, что ты сказал. Но ведь наш источник сообщил, что они будут в городе в начале апреля, а сегодня уже десятое.
— Они передумали. Но не унывайте. Говорят, они могут приехать со дня на день. А девушка — Селина Годвин, их дочь.
Очень медленно Джеймс снова поднял бинокль.
— Супруги Годвин впервые вывозят ее в свет в этом сезоне, — сказал Вон Тель. — Вот главная причина их пребывания в Лондоне.
— Ты только что мне сказал, что их в Лондоне нет.
— Они будут. Сначала послали сюда девушку и ее компаньонку.
Или бинокль врал, или девчонка была гораздо более приятна на вид, чем его убедили прежде.
Вон Тель положил руку на плечо Джеймса. Этот жест был единственным проявлением фамильярности, которая когда-либо присутствовала в отношениях между этими двумя людьми. Когда Вон Тель впервые использовал сигнал «Успокойся», Джеймс был мальчиком не старше двенадцати, а самому Вон Телю едва исполнилось девятнадцать лет. За два десятилетия, что прошли с того дня, возникало много ситуаций, которые оправдывали появление сдерживающей руки на плече Джеймса.
— Говорят также, что Годвины могут испытывать нужду в деньгах.
Джеймс замер. Он продолжал тщательно изучать высокую златовласую девушку в платье цвета морской волны, которое — если глаза Джеймса не обманывали — не имело совершенно никаких украшений и сидело неважно.
— Мне сказали, они надеются использовать замужество мисс Селины, чтобы пополнить свои опустевшие карманы. Как ни странно, ей уже сделал предложение один весьма богатый человек. Не кажется ли вам, что поэтому расходы, связанные с выездом девицы в свет, становятся ненужными?
— Кажется, — криво усмехнулся Джеймс. — Без сомнения, ты вскоре выяснишь, что скрывается за всем этим.
Загадочную способность Вон Теля добывать информацию можно было сравнить по приносимой ею пользе только с его проницательностью, что было хорошо известно лишь Джеймсу и прекрасной Лиам, другому человеческому существу, которому Вон Тель доверял безоговорочно. После смерти Френсиса Сент-Джайлса слуга едва ли сказал больше, чем несколько слов, кому-либо, помимо Джеймса и китайской девушки.
Первое действие пьесы заканчивалось при нарастающем шиканье, вое, напоминавшем звериный, и взрывах смеха. Джеймс откинулся в кресле и завел руку за спинку.
— Итак, девушку хотят превратить в источник существования, благодаря чему Годвины жили бы на уровне, на который они никогда не имели никаких прав.
— Весьма вероятно.
— Не считаешь ли ты, что в силу этого девушка может стать для них самой ценной частью их достояния?
— Без сомнения, родители очень дорожат своей дочерью.
Зацепив большим пальцем отворот своего прекрасно сшитого черного сюртука, Джеймс расправил грудь:
— Конечно. Очень дорожат… — Великолепные люстры вспыхнули в полную силу, знаменуя антракт. — Пойдем, пора делать первый ход навстречу моей цели: добиться, чтобы у мистера и миссис Годвин не осталось ничего из того, что они ценят.
Селина аплодировала, пока сцена не опустела; остался только задник, изображающий прекрасный храм с посвящением — весьма уместным — Шекспиру.
— Как жаль, что мама и папа не смогли сегодня быть здесь! — сказала Селина своей дорогой Летти Фишер. — Не забыть бы сказать им, как я признательна за все, что они делают для меня.

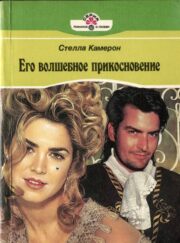
"Его волшебное прикосновение" отзывы
Отзывы читателей о книге "Его волшебное прикосновение". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Его волшебное прикосновение" друзьям в соцсетях.