В скором времени Франц Массарий познакомил нижегородцев с популярной на его родине, в кругах провинциального дворянства, парфосной охотой — с гончими, когда собаки загоняли зверя до изнеможения. На улицах города стали устраиваться охотничьи потехи — травля собаками лисиц и зайцев, специально доставляемых для этой цели из окрестных лесов, в том числе и из тех, которые прилегали к селу Шапкино, которое Массарий купил задешево и дававшее ему ныне немалый доход.
Алексей Измайлов был человеком не бедным — наследство досталось ему преизрядное, да и приданое жены оказалось немалым. Он мог бы жить барином только на доходы с имений, однако старался, чтобы они приносили все большую и большую прибыль, умножая достояние не только владельца, но и его наследников, а оттого не испытывал чисто русского, барского, спесивого презрения к работе, делу, предпринимательству. Он не понимал, почему, например, купечество должно богатеть, наживая, а дворянство — только проживать и, стало быть, беднеть. Он восхищался оборотистым Массарием, который, бежав из Франции натурально в чем был, сделался одним из богатейших людей губернии, владельцем сотен душ. Вдобавок с людей своих трех шкур не драл: несколько лет подряд Массарий выпускал на волю по десятку шапкинских крепостных. Слава о его человечности гремела среди образованного, начитавшегося Руссо и Вольтера дворянства, которое полагало крепостничество болезнью Российской Империи. Князь Измайлов к таковым не относился, однако против Массария не злобствовал, называя его затею чудачеством, но смутно чуя в этом доброхотстве какой-то подвох. Так и вышло: Александр I именным указом запретил Массарию его новации, и тут обнаружилось, что ловкач француз давал вольную лишь старикам, увечным, нетрудоспособным, чтобы освободиться от бездоходных ртов… Впрочем, это не уронило его ни в глазах нижегородских дворян вообще, ни князя Измайлова в частности: он лишь посмеялся и подивился предприимчивости Франца Осиповича. Он уважал деловые способности что в русских, что во французах, а потому не мог не упрочиться в своем доверии к рекомендации маркизы д'Антраге, когда увидел, что́ собой представляет салон мадам Жизель.
Слово «салон», впрочем, лишь бледная тень истины: графиня де Лоран заправляла маленьким заводиком по производству женской красоты.
Новейшие картинки и журналы приходили из Парижа, Лондона и Берлина через Москву и Петербург бесперебойно; оттуда же, с самых лучших мануфактур, исправно присылали шелка, бархат, кисею, батист, сукно и лучших сортов шерсть. Везли с Урала полудрагоценные камни, с севера — «бурмицко зерно», речной жемчуг — наряды здесь шили богатые! На маленьком птичьем дворе нарочно выращивали павлинов и фазанов, особые красильщики придавали перьям тон, нужный для каждой шляпки, которую им предназначено было украшать. Возами шла с Малороссии солома — не хуже знаменитой итальянской! — и флорентийские шляпки с искусственными цветами, сделанными руками нижегородских искусниц, были у здешних красавиц нарасхват, как, впрочем, меховые и шелковые капоры, напоминающие уютные, благоухающие пещерки, откуда так таинственно выглядывают розовые личики; зимние шапочки, сшитые из дорогих мехов с особенным скромным щегольством… В подвалах дома на Варварке бойко стучали молотками сапожники, вкусно пахло самолучшим сафьяном; здесь же шились и шелковые бальные туфельки. Под самой крышей трехэтажного дома сновали туда-сюда, будто остроголовые молодые щуки, иглы швеек, белошвеек и златошвеек; стучали коклюшками и мелькали спицами кружевницы, проворно разбирали десятки разноцветных моточков вышивальщицы. Тут же была особенная маленькая комнатка, где два старых королевских парфюмера, бежавших в Россию чуть ли не с помоста гильотины, смешивали и разливали в затейливые склянки (в «империи» мадам Жизель был и свой стеклодув!) помаду для губ и волос, румяна, притирания, всяческие кремы и знаменитую ароматическую eau de Iavande, лавандовую настойку. Впрочем, она была не совсем лавандовая, ибо к ней, по рецепту мадам Жизель, добавлялось и розовое, и гвоздичное масло, и шалфей, и фиалка… да и еще всякая душистая всячина! На заднем дворе, в просторном сарае, размещалась мебельная мастерская: здесь изготовлялись вошедшие в моду миниатюрные низенькие кушетки и козетки для дамских будуаров, обитые самым лучшим атласом или английским ситцем. Словом, проще перечислить, чего не делали на «заводике» мадам Жизель…
Любая провинциальная дама, пожелавшая одеться согласно всем требованиям последней парижской моды, могла войти в дверь особняка графини де Лоран, pardon, в неглиже, а выйти не только сверху донизу одетой, обутой и напомаженной по последней моде, но и причесанной в соответствии с deriner cri, ибо некий месье Жан (разумеется!) не покладая рук трудился здесь над светлыми, рыжими и темными локонами. Можно было явиться к мадам Жизель хоть и вовсе без неглиже — и найти его здесь: и корсеты, и сорочки, и нижние юбки, и чулки и все прочее батистовое, кисейное, шелковое и кружевное, что надевают прекрасные дамы под платья. Единственное, что непременно следовало бы принести с собою, это увесистый кошель, ибо услуги сего гнездилища соблазнов стоили, мало сказать, недешево — они были истинно разорительны! Денег, плаченных за все эти «кружева, кружева, кружева», как называл князь Измайлов новые платья внучки, хватило бы на годовое довольствие иному семейству! Но цель определенно оправдывала средства; вдобавок дамы здесь и впрямь могли окунуться в атмосферу истинно светского парижского салона, те, чей французский был, так сказать, не вполне разборчив, имели возможность его усовершенствовать; а на прелестных petit soirs [13] всякая дебютантка, прежде чем сдавать экзамен в Дворянском собрании либо на балу у губернатора, могла научиться, по принятому в то время выражению, кокетничать и флиртечничать, как подобает девушке скромной, но не желающей засиживаться в девках: облетом искрометного взгляда зажигать самые холодные и самонадеянные сердца. Это ведь только купеческое сословие, державшее свои семьи в строгом повиновении и послушании, выбирало сыновьям невест на Софроновской площади в пору ежегодных зимних гляжений, а люди дворянского звания предпочитали присматриваться к барышням на балах. На petit soirs мадам Жизель девиц учили не только без передышки порхать под музыку весь вечер, чтобы не отказаться, за неумением, ни от экосеза, ни от котильона, ни от гросфатера, а также от полонеза — сотана, пергурдона, гавота, вестриса, мазурки в четыре пары, не пропустить русскую па-де-шаль, фанданго, матлот, венгерку, алеманд, краковяк, падекозак… и проч. Обучали также: не дышать тяжело, запыхавшись, а лишь трепетно переводить дух; изящно покачивать головою слева направо, дабы во время быстрой французской кадрили в восемь фигур или новомодного вальса не страдать от головокружений; не жать кавалеру руку в танце слишком крепко даже от усталости — мало ли, сыщется от природы тупой, не так поймет — и погибла репутация юной девы! Молоденьких провинциалок французская мадам муштровала строго: спину держать прямо, веером обмахиваться, а не размахивать, ухитряться, чтобы от усталости и невыносимой духоты балов их хорошенькие личики не превращались в вакханские физиономии, туго закрученные локоны не развивались бы, платья бы не обдергивались, перчатки не промокали — и все прочее в этом же роде. Девиц учили выдержке не милостивее, чем прусский капрал учит новобранцев. Однако никто не желал сократить курс обучения. Если и сокрушались втихомолку, так лишь о том, что на «настоящих балах» придется отдаться на милость провинциальных увальней, пропахших табаком, что не удастся век танцевать только лишь с вежливым до предупредительности, красивым, отличавшимся изяществом манер, рыцарским благородством, нежной живостью характера и непринужденностью разговора графом Фабьеном де Лораном. Он был постоянным кавалером нижегородских дебютанток на балах своей матери; танцевал, несмотря на свою полноту, божественно мягко; и каждая девица мечтала, чтобы заученно любезный взор галантного Фабьена при встрече с ее взглядом вспыхнул огнем нежности и страсти. Графский титул, который, по бесчисленности носящих его мелких, малоизвестных дворян, во Франции ценился уж нипочем, в России был еще в редкость, и родовитые и богатые русские невесты охотно выходили за сих мнимознатных людей, особенно когда они имели русский военный чин.
Военного чина у графа Фабьена не было, однако это не убавляло его привлекательности. Но похвалиться особым успехом не могла ни одна барышня. Он отличал всех, а значит, никого, он отвечал на кокетство каждой, а значит, не флиртовал ни с кем. Наблюдательные барышни отметили, что сдержанным и молчаливым Фабьен бывал, лишь когда танцевал с «новенькой»: молоденькой баронессой Ангелиной Корф.
Больше всех была поражена этим она сама.
Дожив до двадцати почти годочков, Ангелина прочно усвоила одну истину: она не удалась. Родившись в богатой и знатной семье, у любящих родителей, выросшая в неге и холе, окруженная самозабвенной заботой деда с бабушкой, она всегда чувствовала — даже не понимая, смутно, безотчетно, в самой глубине младенческой, потом детской, потом девичьей души, — что ее любят не за то, какая она есть, а за то, какой ее желают видеть. То есть как бы вовсе не ее любят! От нее столько ожидали… и, беда, никак не удавалось соответствовать этим чужим мечтам! Машенька Грацианова на детских праздниках пребойко пела тоненьким голоском — Ангелина дичилась: пение Машеньки казалось ей смешным, она не хотела быть посмешищем! — но бабушка укоризненно шепнула: «Ах, умница Машенька, а ты… экая бука!» — и этого было достаточно, чтобы раз и навсегда отбить в ней охоту и радость петь или как-то иначе показывать себя прилюдно.
«Эх, эх, бой-девка — радостно блестя глазами, кричал дед, когда кузина Дунечка Румянцева лихо взяла первый свой барьер на английском пони. — А наша, видать, боится, что упадет!» — засмеялся он, ласково потрепав Ангелину по плечу. Она не боялась — разве что самую чуточку! — но если робость еще можно было одолеть, то ожидание новых ласковых насмешек — никак. Укорила матушка, глядя, как деревянную от робости Ангелину влачит по паркету учитель танцев: «Не отдави мозоль месье Фюрже!» — и с тех пор на всех танцевальных уроках — и дома, и в Смольном — Ангелина уверяла, что у нее болит нога и даже начала ходить, слегка прихрамывая, лишь бы избавиться от возможных укоров. «Ох, какие у вашей дочери волосы!» — восхищалась супруга английского атташе на приеме в русском посольстве, еще когда Ангелина жила с родителями; отец, более всего озабоченный тем, чтобы его рассеянная дочка выросла примерной скромницей, прошептал, с ужасом глядя на ее буйно-кудрявую голову: «Господи, опять, поди, кудлы повылезли?!» С тех пор Ангелина полагала себя еще и самой некрасивой на всем белом свете.

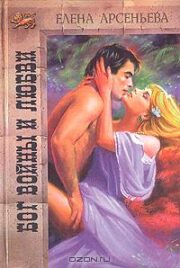
"Бог войны и любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Бог войны и любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Бог войны и любви" друзьям в соцсетях.