— Да ну, какая ерунда! Ну, сделаешь другое питье, стаканов, что ли, мало? — удивилась Мария. — О чем это я… ах да! Старая ратуша в Вормсе! Как раз там император Карл V со всеми своими князьями судил Лютера [208]. — Она так старалась удержаться на стрежне своих воспоминаний, что говорила теперь вполне связно. — И нынче еще там показывают лавку, на которой стоял стакан с ядом, для него приготовленным. Божьей милостью он лопнул на мелкие кусочки, яд пролился. Это было, было… в 1521 году! — Мария захлопала в ладоши, радуясь, что вспомнила дату — с ними она всегда была не в ладах. — И вообрази только, Глашенька! Досужие путешественники вырезали по кусочку от того места, где стояла отрава, и почти насквозь продолбили доску. Я тогда спросила, неужто для кого-то значимы столь невзрачные сувениры, как щепочки, но меня уверили, что яд сей очень долго сохраняется, и, возможно, кто-то из путешественников даже отравил такой щепочкой своего соперника или соперницу. И современные химики смогли даже распознать его состав. Мне рассказывали… это… я помнила, а теперь забыла! Забыла! — И она зарыдала, зашлась в слезах, столь же бессмысленных, как давешний смех, и столь же изнурительных. Глашенька насилу ее успокоила!
Потом пришел Данила, поднял свою барышню на руки, поразившись тому, как она исхудала и обессилела, понес в кровать. Голова Марии лежала на его плече, слезы все еще текли из-под полуприкрытых век. Все расплывалось и дробилось в ее глазах, опять какие-то фигуры мельтешили… будто бы даже Корф встал вдруг на пороге — мрачный, со скрещенными на груди руками, окинул комнату взглядом — и тут же исчез за шторой. И Мария опять тихонько заплакала — на этот раз от того, что это был всего лишь призрак…
Призрак, впрочем, оказался навязчив. Проснувшись в полночь (ее всегда будили в это время громкие, тягучие удары на башне старого монастыря в квартале от дома Корфа), она без всякого удивления, а даже с радостью вновь увидела барона: он стоял, склонившись над табуретом, и внимательно его оглядывал. Потом блеснул стилет, раздался слабый треск, и Мария отчетливо увидела в руке мужа щепочку, отколотую от злополучного табурета, — в точности так, как если бы это был не табурет, а знаменитый стол в старой ратуше в Вормсе, выщербленный любителями сувениров. Мария приподнялась — в ту же секунду призрак исчез, только шторы колыхнулись, Мария крепко задумалась, способно ли бесплотное тело колыхать тяжелую ткань, да и заснула.
Утром голова у нее была вполне свежая. Еще в полусне вспомнила, как странно вел себя ночной призрак, приподнялась, взглянула на дверь — и чуть не ахнула: табурета там не было. Ни со щепкой отколотой, ни без щепки — не было вовсе!
Вошла Глашенька — и едва не упала, увидев оживленное лицо своей барышни, услыхав ее бодрый голос:
— А где табурет?!
Не скоро сообразив, о чем речь, Глашенька пролепетала, что табурет сломался и его с утра сожгли на кухне в печи.
— В печи? — встрепенулась Мария. — А что сегодня варили? Что на завтрак?
Глашенька замерла. Она не верила своим ушам! Вот уж добрый месяц заставить барышню проглотить хоть кусочек сделалось почти непосильной трудностью. Каждое утро Глашенька приносила ей тарелку с кашей, умоляла съесть хоть ложечку, — и в конце концов печально съедала кашу сама, подсаливая ее горькими слезами. И вот сегодня она даже не внесла поднос с завтраком в спальню, оставила за дверью, не надеясь, что барышня поест, а она-то, она!..
Глашенька птицей выпорхнула из спальни, схватила со столика поднос, потом поставила, чтобы поднять салфетку, которая почему-то свалилась на пол, потом уронила ложку, кинулась в столовую, взяла чистую, опять схватила поднос, удивленно уставилась на кашу, в которой появились какие-то красноватые пятна, но решила, что пенки перепеклись (кашу и во Франции старались варить по-русски, держали в духовке, пока не упреет). Она вновь вбежала в спальню, но аппетит у Марии к этому времени пропал столь же внезапно, сколь и появился, зато проступило такое неодолимое желание немедля уснуть, что она едва успела пробормотать:
— Не хочу. Съешь сама! — и провалилась в сон, как в самую мягкую перину на свете.
Ей снились матушкины письма: Елизавета писала часто, едва ли не каждую неделю. И за те трое суток, которые Мария проспала почти без просыпу, она как бы мысленно прочла все ее последние письма, которые по хворости своей едва проглядывала. И во сне она то плакала, то смеялась, потому что Алешка-меньшой теперь почти не возвращался из Сербии, сделавшись советником какого-то Георгия Карагеоргиевича, решившего наконец избавить свою страну от иноземного владычества; еще было написано, что Алексей Михайлович беспрестанно курсирует между Нижним Новгородом и столицами, вечно занятый своими неотложными государственными делами, связанными с успехами и неуспехами русской дипломатии на Балканах; что сама Елизавета скучает — ведь никто из ее детей не позаботился подарить ей внуков, а без детских голосов в любавинском огромном доме пусто, — и вот, от нечего делать, она стала записывать многочисленные и подчас невероятные приключения своей жизни, создавая мемуары на манер Ларошфуко, Таллемана де Рео или хоть Никон де Ланкло. Вообразив свою очаровательную матушку склоненной над пачкой белых бумажных листов, с гусиным пером в запачканных чернилами пальцах, Мария рассмеялась сквозь сон — и открыла глаза, чувствуя себя как никогда бодрой и сильной.
Какая-то согбенная старушечья фигура при ее первом движении порскнула с кресла и проворно выскользнула за дверь: верно, ночная сиделка, увидев, что больная проснулась, побежала за Глашенькой. Что-то было знакомое в этой сиделке, но она больше не появилась, и Мария позабыла про нее.
Вместо Глашеньки в комнату вошел Данила с подносом в руках и пожелал барышне доброго утра, Мария накинулась на еду с аппетитом неуемным, съела все до крошки, запив изрядной порцией кофе; а затем с помощью Данилы проследовала в туалетную, где кое-как сама помылась, недоумевая, что же нейдет ее расторопная горничная. Данила переменил постель, и Мария, переодетая во все чистое, вновь возлегла на перины и подушки, хотя с гораздо большим удовольствием отправилась бы сейчас на прогулку в Булонский лес.
— Да где же Глашенька? — вскричала она нетерпеливо — и осеклась, увидев, что перед нею стоит совсем не тот франтоватый, разбитной волочес, с восторгом офранцузившийся именно в той степени, чтобы сделаться забавным резонером с вечно живой склонностью к чисто русскому самоедству, — а совсем другой человек, постаревший лет на десять, с тяжелыми морщинами у рта и печальными, ввалившимися глазами.
Поглядев в них, Мария задрожала, словно груди ее коснулось ледяное острие шпаги, и спросила, едва совладав с голосом:
— Что… что-то с Димитрием Васильевичем? Он болен?! Ну! Говори же!
Данила заморгал:
— С господином бароном, а что с ним может быть? С ним ничего, жив да здоров. Переживает только очень. И я вот… переживаю, — он всхлипнул.
— Да говори же, говори! — Мария вцепилась в его руку, затрясла нетерпеливо. — Что случилось? Не томи!
Данила, не совладав с собой, расплакался в голос, и Мария едва смогла разобрать его слова:
— Глашенька умерла. В одночасье! Уже и похоронили…
Спустя неделю Мария стояла в библиотеке у высокого окна и сосредоточенно смотрела, как дождевые струйки бегут по стеклам. После изнурительной засухи небеса расщедрились на ливни, и хотя урожай, наверное, было уже не спасти, трава, цветы и деревья упивались изобилием влаги. Поникшие стебли распрямлялись, съежившиеся листья наливались свежестью, ветви деревьев поднимались — все оживало в природе. И только мертвых не воскресить!
Мария столько слез уже выплакала, что сейчас глаза ее остались сухи.
В горле першило от горя и отчаяния, по спине пробегал холодок — она отошла к камину и склонилась над огнем, тщетно пытаясь согреться. Не сырость, не слабость в еще не совсем оздоровевшем теле, даже не печаль вызвала в ней этот озноб, нет — отчаяние и страх!
Ужас затаился в доме. Часть прислуги ушла, часть уйти собиралась.
Почему-то смерть Глашеньки напугала всех, и у Данилы порою тряслись от страха руки. Он первым проговорился, что внезапная кончина Глашеньки напоминала отравление, а паническое бегство прислуги только подтвердило его слова.
Но кому нужна была смерть безвинной горничной, со всеми доброй, милой, приветливой? Кому помешала Глашенька?
Мария снова и снова возвращалась к этому в разговорах с Данилою, а он все трясся, и отмалчивался, и отводил глаза, но как-то раз Мария заметила, что он украдкой отведывает всякую еду и питье, которые приносит ей, а ночью дремлет в кресле у ее кровати, — и осенила страшная догадка: Глашенька-то умерла, съев ее завтрак! Глашенька приняла смерть чужую, предназначенную другому человеку! Предназначенную ей, Марии!
И теперь казалось: она всегда знала о том, что смерть искала именно ее.
Это болезненное безумие, это равнодушие… чем, интересно знать, ее опаивали, чтобы постепенно свести на нет трепет жизни? Брошенный в печку стул, на котором лопнул стакан с ядом, — Мария не сомневалась, что питье было отравлено… Каша, предназначенная для больной, содержала более сильную дозу яда, — возможно, убийце надоело ждать. Или отравитель испугался разоблачения? Но с чего вдруг? Как можно было принять всерьез полубредовый рассказ Марии о разбившемся стакане Карла V?
Нет, не так надо ставить вопрос: кто мог принять этот рассказ всерьез? Кто слышал его, кроме Глашеньки?
Она вспомнила мрачную фигуру со скрещенными на груди руками: вспомнила треск щепочки, отколотой от стула, пропитанной ядом… Призрак Корфа! Призрак? А кто приказал сжечь почти новый табурет, уж, наверное, не слуга своевольно это сделал: и не призрак какой-нибудь, лишь сам хозяин дома.

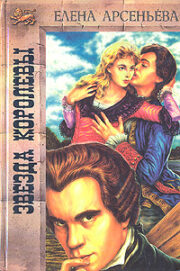
"Звезда королевы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Звезда королевы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Звезда королевы" друзьям в соцсетях.