Климат Парижа был и зимой мягким и теплым, однако зима 1788 года выдалась необычайно жестокой. Сена замерзла по всему течению до самого Гавра.
По счастью, Глашенька неустанно заботилась о сохранности соболей и чернобурок своей хозяйки, и в эту зиму Марии откровенно завидовала даже графиня д'Армонти, известная роскошью и элегантностью нарядов. Остальные русские, привыкшие к мягкому климату Парижа, тоже мерзли — все, кроме Симолина, который в особенно морозные дни напяливал на себя несколько фуфаек да еще развешивал по окнам спальни три-четыре локтя зеленого фриза, твердя: «Этот мороз, видно, полагает, что мне не из чего нашить себе фуфаек. Я докажу ему обратное». Еще он говорил: «Бог посылает стужу лишь для нищих или дураков, а те, у кого есть чем согреться и во что одеться, от холода страдать не должны».
Рождество справили совсем по-русски: Симолин велел переставить свою карету на полозья и, заезжая за всеми посольскими, забирал их вместе с женами и возил кататься с гор. Лепили снежных баб, играли в снежки, согревались блинами, горячим сбитнем и водкой. Очень много веселились… Корф, конечно, всегда был занят, да если бы и нет, то какой с него прок? Мария любовалась заиндевелыми вершинами каштанов и лип, которые искрились и сверкали в морозном голубом небе, словно посеребренные. Вокруг лежали нетронутые россыпи жемчугов и бриллиантов… однако что толку от них бездомным и голодным. И Мария, несмотря на радость от «настоящей русской зимы», умерила свои восторги, узнав, что каждое утро в закоулках находят обмерзшие трупы несчастных, у которых не было чем согреться в эти черно-белые, леденящие тело и душу ночи. Потом стало известно, что король из собственных средств покупает дрова для народа. Положение немного улучшилось, и бедные люди воздвигли напротив Лувра снежный обелиск в благодарность Bon Roi. Все парижские стихотворцы сочиняли надписи для такого редкого памятника, и лучшая из них такова:
Мы делаем царю
и другу своему
Лишь снежный монумент;
милее он ему,
Чем мрамор драгоценный,
Из дальних стран за счет
убогих привезенный.
Это было последним всплеском верноподданнических чувств народа, которые иссякли прежде, чем весеннее солнце растопило монумент.
В королевской казне при растущем дефиците почти забыли, как выглядят деньги. Налоги на привилегированные сословия не решался ввести ни один министр, ни один советник; налоги на простой народ уже не давали ничего: нельзя добыть воды из пустого колодца… кроме грязи, оттуда ничего не зачерпнешь! Все знали: за двенадцать лет правления Людовика XVI государственный долг страны стал равен одному миллиарду двумстам пятидесяти миллионам франков. Кто и на что израсходовал эту астрономическую сумму, если бедняки надрывались по десять часов в сутки за пару су?! Ответ у народа был один: королева.
Какой герой в венце с пути
не совратился?
Кто не был из царей в порфире
развращен? —
цитировал Симолин трагедию Княжнина «Вадим Новгородский». Однако, похоже, обобщения подобного рода не могли бы успокоить потрясенную французскую нацию. Теперь ясно, почему хлеб дорожает, а налоги растут: потому что австриячка-мотовка приказывает целую комнату в Трианоне облицевать бриллиантами, потому что она тайно послала своему брату Иосифу в Вену сто миллионов на войны, потому что она своих любимчиков, и прежде всего ненасытную Жюли Полиньяк, сменившую прелестную и скромную княгиню де Ламбаль, щедро одаривает пенсионами, подарками и теплыми, доходными местечками. Вот кто виновник финансовой катастрофы! И новое прозвище королевы — Madame Deficit, Мадам Дефицит, — заклеймило ее чело покрепче, нежели две буквы V — плечи графини Ламотт.
Лето принесло стране немного облегчения! 13 июля, как раз накануне жатвы, выпал страшнейший град, уничтоживший урожай этого года, который прежде пострадал от засухи. На 60 лиг вокруг Парижа почти все посевы погибли. Значит, ко многим прочим бедам добавился еще неурожай и грядущий голод. А голод означал мятежи…
Один министр финансов сменял другого, однако худосочие королевской казны оставалось хроническим. Нужен был новый министр, уже угодный не королю, а — O tempora! O mores! [206] — этому таинственному, неизвестному и опасному существу — народу. И вот в августе 1788 года королева призвала к себе в личные покои известного финансиста Неккера и упросила его принять опасный пост.
4 августа, в этот достопамятный день, Симолин приехал в дом Корфа в скособоченном парике и сообщил, что на улицах начинается буйство. На площади Дофина летали ракеты и петарды. У подножия статуи Генриха на Новом мосту жгли соломенные чучела. Толпа так неистовствовала, что городская стража дала залп в воздух, однако и он не смог заглушить рева толпы: «Да здравствует Неккер!»
— Ну что ж, поживем — увидим, — умиротворенно усмехаясь, проговорил Симолин, вполне успокоившийся после чашки чаю (пристрастие к этому английскому напитку сделалось в Париже почти всеобщим), и взял Марию за руку. — Знаю только одно — народ есть острое железо, которым играть опасно. Да Бог с ним. Вы-то как, душа моя?
Мария несколько деланно улыбнулась, как бы невзначай отнимая у Симолина руку, прежде чем он заметит, какая она холодная и влажная. Однако Иван Матвеевич озабоченно насупился:
— То в жар, то в холод, как я погляжу? Чесноком врачуетесь ли?
Симолин полагал чеснок чудодейственным средством от всех болезней, тем паче — от простуды, и Мария с того самого дня, как в конце зимы застыла на масленичном санном катании, при каждом посещении Ивана Матвеевича выслушивала повторяющийся слово в слово совет, что надобно два зубчика чеснока истолочь, капнуть теплой водички, положить в сей раствор несколько махоньких тряпочек, дать им полчаса настояться, а потом вкладывать такие тряпочки в ноздри — и чихать, пока вся хворь не выйдет, а в голове не прояснит!
Мария покорно чихала — и месяц, и другой, и третий и пила всевозможные отвары, настойки и снадобья, что на русский народный, что на аптекарский, научный, французский манер, но вот уж и лето шло к исходу, а периоды кратковременного улучшения все так же чередовались с более длительными, когда не только хворь не выходила, но и, что гораздо хуже, в голове не прояснялось. Дни она проводила в подобии полусна, когда постоянно хотелось приклонить голову, а исполнение неизбежных светских обязанностей стало подлинной мукою.
Ночами ее донимали кошмары, из которых особенно часто повторялся один: Мария спускалась в подземелье, куда вело множество крутых ступеней, темнота кругом страшная; густой сырой воздух забивал дыхание. В этом подземелье Мария искала Корфа: он спустился сюда несколько дней назад, но факел его угас, он бродит где-то в лабиринте, тщетно ищет выход… может быть, уже лежит мертвый, глядя во тьму остекленевшими глазами, словно и после смерти пытаясь найти проблеск света… спасительный выход!
Мария пробуждалась в приступе неистового ужаса, вся в ледяном поту, со слезами на глазах, с именем Корфа на устах, с болью неутихающей, бесполезной, никому не нужной любви в сердце… чтобы перейти к дневной маяте, когда все качалось и плыло вокруг; в комнате, бывало, все время толклись незнакомые люди, заглядывали Марии в лицо с выражением то сочувствия, то угрозы, то глупо хихикали, точно слабоумные… потом оказывалось, что никого не было, Глашенька, заливаясь слезами, божилась, что никогошеньки, ни души… Или Глашенька врала — да зачем ей врать?! — или Мария медленно сходила с ума.
В дни, когда наступало просветление — бывали и такие дни! — она думала об отце, которого не знала, не помнила, о графе Строилове, который, по рассказам матери, отличался болезненной, ненормальной жестокостью; она думала о своей бабушке по материнской линии, Неониле Елагиной, изнуряемой страстью к отмщенью до того, что в уме повредилась и даже с родной дочерью своей была изощренно немилостива… Уж не унаследовала ли Мария безумие своих предков, которое проявлялось теперь в ней, оживленное страданиями душевными и телесной хворью?
Странно — никакого особенного ужаса при этой мысли она не испытывала. Как если бы болезнь или безумие были некой силою, пред которой нельзя не склониться: что толку противиться превосходящим силам противника, когда отбиваться нечем? Как писал перед смертью великий Монтескье: «Я человек конченый, патроны расстреляны, свечи погасли».
Ну вот и возникло, оформилось в голове Марии это слово — смерть, — но и оно не напугало ее в том вялом состоянии, в каком она теперь почти беспрерывно находилась.
Однако бывали и просветления. Как-то раз Глашенька несла своей барышне (она и по сю пору оставалась для русских слуг барышней, а холодное, чужеземное слово «баронесса» ими как бы и не выговаривалось) стакан с горячим целебным отваром, изготовленным по какой-то новомодной французской методе, — стакан столь горячий, что, едва войдя в спальню Марии, она почти уронила его на табурет, стоящий у двери, и даже заплакала, дуя себе на пальцы. В ту же минуту стакан лопнул, распался на две ровные половинки — верно, Глашенька неосторожно стукнула его, — все варево вылилось и с забавным шипением, напоминающим ворчание, быстро впиталось в неструганые доски.
Мария мгновение смотрела на табурет изумленно, а потом зашлась в мелком, почти беззвучном смехе. Глашенька быстро перекрестилась, глядя на нее.
— Знаешь, что я вспомнила? — с трудом прорвался голос Марии сквозь неуемный смех. — Когда ехали сюда… ну, из России ехали! — В Вормсе [207] мы с графом Егором Петровичем зашли в ратушу… — Мария вдруг забыла, о чем говорила, и несколько мгновений напряженно смотрела на табурет, от которого приятно пахло мокрым деревом. — Как в бане! — Она опять захихикала, а Глашенька опустила голову, скрывая слезы, вдруг ручьем хлынувшие из глаз.

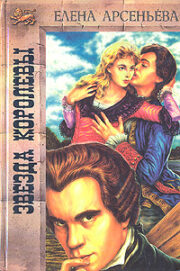
"Звезда королевы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Звезда королевы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Звезда королевы" друзьям в соцсетях.