Но до этого еще оставалось время, и хотя первые зарницы будущей грозы уже вспыхивали на горизонте (по стране прокатилась волна «хлебных бунтов», когда голодные люди громили лавки, останавливали и грабили баржи с зерном и мукой), воздух по-прежнему оставался чист и мягок, а солнышко сияло, как в добрые старые времена. Впрочем, кое-что изменилось, однако никто не желал видеть изменений. Их и не видели.
Вот и в жизни Марии не изменилось ничего… кроме ее внутреннего состояния. Она вдруг ощутила в себе какой-то надлом — и никак не могла исцелить свою душевную рану. Она была женщина, она была дитя своего времени, она была воспитана в убеждении, что единственное предназначение женщины — быть верной служанкою супруга, а ежели супруг отвергает ее — следовало покорно сносить немилость судьбы. Впрочем, к чему лукавить: ее легкомысленный век предлагал некое единственное средство, способное скрасить жизнь с нелюбимым (или нелюбящим) мужем, — чувственное увлечение, легкомысленное кокетство.
Что ж, Мария вкусила и этого полной мерою, однако бурные встречи с Сильвестром (маркиз осаждал ее с упорством Тамерлана, Германика, Карла Великого и всех прочих великих полководцев древности, вместе взятых) приносили Марии все меньше радости, лишь разрывали в клочья и без того потрепанные одежды ее добродетели. Конечно, была особая удаль поступать во всех случаях своей жизни так, как ей больше всего нравилось поступить в данную минуту. Поэтому ей всегда бывало тошно в так называемом приличном обществе, где умение притворяться заменяет ум.
Глядя на себя в зеркало, Мария видела, как разительно изменилась. В ней появилось то убийственное очарование, которое свойственно только красивой женщине, не стремящейся очаровать, равнодушной к производимому ею впечатлению, — что и делало молодую баронессу Корф поистине неотразимой.
Теперь она имела все: богатство, положение, поклонников — все, кроме одного: любви. А без любви жизнь ее была пуста и бессмысленна. Если бы хоть дети!.. Теперь Мария твердо знала: окажись она беременна хоть бы и от самого свирепого насильника, она ни за что на свете не избавилась бы от ребенка! Отчасти надежда на туманное, расплывчатое обещание мамаши Дезорде: «Может быть, когда-нибудь, каким-то чудом…» — заставляло ее вновь и вновь падать в объятия Сильвестра. Но нет. Все было напрасно, и, уж конечно, не пылкий маркиз был тому виной, а лишь злая судьба. Мария утратила двух своих детей… одному сейчас уже седьмой год шел бы, другому — третий. Иногда она позволяла себе потерзаться мечтами о том, как они выглядели бы: первый-то был мальчик, а второй? Может быть, была бы дочь — счастье своей одинокой, забытой, несчастной матери?
Такие никчемные, но болезненные мечтания всегда заканчивались приступами мучительных, изматывающих рыданий, после которых Мария неделями пыталась прийти в себя, вернуть душевное спокойствие, уверенность в своих силах… и находила это вновь только в объятиях всегда готового к объятиям Сильвестра. Восторги плотского наслаждения как-то постепенно сходили на нет: Сильвестр не был ею любим. Теперь ее вела к нему в постель какая-то особенная, на грани извращения, гордость: «Мой муж из-за своей выдуманной чести толкает меня в пучину порока, а вот любовник из страсти ко мне забыл и о чести, и о совести!»
Мария не очень-то интересовалась секретными симолинскими делами, однако хитрющий Иван Матвеевич позаботился довести до ее сведения, что маркиз Шалопаи, у коего была немалая должность в министерстве иностранных дел, сделался секретным агентом русского посла и теперь регулярно снабжает Симолина теми тайными, часто меняющимися шифрами, которыми пользовались в своей переписке министр иностранных дел Франции граф Монморен и французский поверенный в делах в России Жене, известный как чрезвычайно ловкий шпион, которого никому еще не удалось схватить за руку. Однако после того, как Симолин через особо доверенных своих курьеров, Литвинова и Константинова, начал пересылать в Россию шифры Монморена, французская дипломатическая переписка свободно прочитывалась в Санкт-Петербурге, и Безбородко удалось несколько раз весьма ощутимо воткнуть палки в колеса Жене, который терялся в догадках относительно такой сверхпроницательности русского министра. Во всем этом была, как выяснилось, немалая заслуга Марии… Ну что ж, во все века женщины вызнавали у мужчин всевозможные тайны при помощи только одного-единственного способа, так что у Марии не было оснований считать себя более продажной, чем ее многочисленные предшественницы. В конце концов, она не получала от связи с Сильвестром ничего, кроме морального удовлетворения, ибо страстный маркиз ей поднадоел.
А любовь ее к Корфу была запрятана в самые отдаленные уголки сердечные. Иногда Мария вспоминала матушку свою, Елизавету, которая четыре года вот так же таила и пыталась погасить любовь к Алексею Измайлову, которого она с уверенностью считала своим братом. И тогда надежда, как слабый ветерок, достигала этого уголька, тлеющего в тайниках души Марии, вздувала слабый пламень… но вскоре он снова угасал под гнетом старых и новых обид и недоразумений. Наконец она оставила всякие попытки изменить чувства мужа — ведь как бы она ни повела себя, публичного скандала или признания в любви от него все равно не дождаться! — и положилась на волю судьбы, уповая на то, что ничего в жизни понапрасну не делается. Зачем-то ведь нужно было Господу много лет тому назад тайком обвенчать Елизавету Елагину с Алексеем Измайловым и тотчас же разлучить их на четыре года, — чтобы потом соединить в вечной, нерушимой любви. Зачем-то ведь нужно было Господу свести две судьбы, Марии и Димитрия Васильевича, и тотчас же отбросить их друг от друга на шесть лет, — быть может, чтобы потом вновь соединить?..
О Сильвестре уже упоминалось. Второю прихотью Марии внезапно сделалось занятие, которое обыкновенно считается привилегией мужского пола: спорт. Как-то Иван Матвеевич обмолвился: «Вашей красоте, Мария Валерьяновна, недостает силы. В сочетании с красотой она придаст вам особый шарм. Вы будете воистину непобедимы и неотразимы!» Еще более убедило Марию упоминание о том, что пресловутая баронесса д'Елдерс любого мужчину за пояс заткнет в стрельбе из пистолетов и фехтовании. Это поразило Марию, как поразила ее и сама личность espionne internationale. Ну хорошо, ухитрилась Мария проникнуть в будуар баронессы тайком, а попадись она Этте Палм на глаза — вряд ли бы удалось не только сделать дело, но и живой уйти, ибо «прекрасная фламандка» в совершенстве владела всяким холодным оружием, дралась, как заправский боксер, была ловчее циркового жонглера… несмотря на свои сорок три года! Марии же было двадцать четыре.
Чего же зря время терять?! С Эттой Палм ей невозможно было подружиться и брать у нее уроки, однако образ этой достойной противницы сделался для Марии как бы примером. Хитрющий Симолин только руки потирал, чая, когда сие наливное яблочко упадет ему в руки, то есть для того дела, кое он уготовил Марии: работы секретного агента. Он терпеливо ждал, пока разум ее вполне освоится с чувствами: Марию влекла лишь внешняя романтика «плаща и кинжала». Ну что ж, всему свое время, думал Симолин, а пока что нанял для Марии лучших парижских учителей фехтования, борьбы, верховой езды и плавания, а также бывшего метателя ножей из цирка, итальянца, и испанца — известного метателя аркана.
Уже через полгода Мария сама себя не узнавала. Все было ей внове, все в удовольствие… кроме того, испанец научил ее великолепно танцевать, а итальянец — метатель ножей преподавал некое подобие бельканто [197]. Она знала уже так много, так много умела, что эти знания и умения подспудно искали выхода, какого-нибудь реального воплощения. Этого только и ждал мудрец Симолин!
Однажды приснился Марии ужасный сон. Виделся ей собор Нотр-Дам. Химеры задумчиво и недобро взирали с высоты на парижские крыши. Потом Мария оказалась внутри церкви, возле мавзолея, изваянного Пигалем: графиня д'Арктур, потеряв супруга, хотела с помощью скульптур оставить долговременную память о своей нежности и печали.
На глазах Марии статуи ожили: светлый ангел, с улыбкою невинного младенца на устах, одною рукою снял камень с могилы д'Арктура, а другой поднял светильник, чтобы снова разжечь в нем искру жизни. Однако не какой-то неизвестный ей страдалец вышел из гроба, а бледный, как мертвец, Димитрий Корф; оживленный благотворной теплотою, он попытался встать и простер к ней свои слабые руки. Мария бросилась к нему, схватила в объятия, всем существом своим впервые ощутив любовь и нежность мужа. Но неумолимая Смерть возникла за спиной барона — черный балахон, черный капюшон, а вместо косы — трость-шпага в руках… Сдвинулась маска скелета — и перед Марией показалось искаженное злобное лицо Евдокии Головкиной. Смерть воздела песчаные часы, давая знать, что время жизни прошло, и, пока сыпались последние песчинки, Мария успела заметить, как лицо «тетушки» сменилось пикантным личиком Николь, а сразу вслед за тем — прекрасными чертами Гизеллы д'Армонти. Но эти такие разные лица были искажены одинаковым выражением смертельной ненависти!.. Тут ангел погасил светильник — и Мария проснулась, вся дрожа и утирая пот с чела.
Отдышавшись и сообразив, что это был всего лишь сон, она вытянулась на спине и, помолившись на звезду, светившую прямо в окно, попыталась вновь уснуть, да не тут-то было. Уж и звезда погасла, и небо просветлело, и первые лучи солнца заиграли в вершинах деревьев, а Мария все вертелась с боку на бок, сминая постель, и подушка чудилась то мягкой, то твердой, как камень. Наконец, отчаявшись, Мария поднялась, кое-как умылась и решила выйти в сад — проветриться, охладить пылающую голову. Уверенная, что в такую рань не встретит ни души, она надела белую рубашку и мужские панталоны до колен, решив не терять даром времени, а заняться гимнастикой. Шенкеля у нее были стальные: лошадь шла под ее седлом даже без поводьев послушно, как овечка; а вот руки довольно быстро уставали от фехтовальных забав. Иван Матвеевич посоветовал ей подтягиваться на толстых ветках, а еще лучше — лазить по деревьям для тренировки. Однако зрелище баронессы Корф, средь бела дня лезущей на дерево, могло любого слугу повергнуть в смущение; по ночам сторож мог принять ее за вора; в этот же рассветный, ранний час сторож уже отправился спать, а прочие слуги еще не проснулись. Время для гимнастики настало самое подходящее!

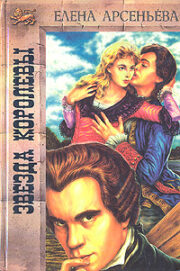
"Звезда королевы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Звезда королевы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Звезда королевы" друзьям в соцсетях.