— Быть может, и мое пропитанное вашей отравою сердце лежало бы в таком карманчике? — не унимался Корф, получивший наконец из России, от Комаровского, подтверждение: да, в прибалтийской деревушке Мария Валерьяновна покупала дивные янтарные кубки, один из которых был красным, как рубин, — и теперь никакая сила не способна была его разубедить в злонамерениях жены, в которой он видел лишь сообщницу ее тетки.
Мария вполне оценила глубину язвительности мужа, но смолчала, хотя всегда самое трудное для нее было — не вступать ни с кем в спор из самолюбия. Уж сколь изранена была ее душа, а все равно до крови поразило, что Корф опять заметил лишь одно, опять застарелая ревность застит ему глаза, он как бы обошел даже толикой внимания все попытки Марии спасти его, охранить… Она же не знала, что от Корфа не отходили ни на шаг люди Симолина, что и без ее мучений Жако и Вайян пальцем не могли бы тронуть барона! Симолин не предупредил Марию, что это была часть его интриги, задуманной для примирения супругов — мелодраматическая интрига, достойная Итальянского театра, не жизни! — и с треском провалившейся. Сейчас он с грустью признал это перед Марией и попросил прощения, что пытался так неуклюже исправить ее жизнь. Вид при этом у русского посла был столь удрученный, что Мария охотно простила человека, в котором видела друга и покровителя.
— Если бы я только знал, чем все это обернется! — схватился Симолин за виски своего паричка, и Марию поразило выражение глубочайшей растерянности на этом всегда таком энергичном, круглом темноглазом лице с забавными, в виде запятых, бровями, широким носом «туфлей» и крепким подбородком, задорно торчавшим над полной шеей, перехваченной пышным галстуком. — Ведь на этом злополучном маскараде я потерял ценнейшего агента!
— Разве кто-то погиб? — удивилась Мария, и Симолин трагически кивнул:
— Погибла графиня Строилова!
Мария смотрела на него холодно, непонимающе. Теперь-то ей казалось, будто она всегда, с первой минуты знакомства — еще прежде бала, еще прежде сведений, привезенных Данилою, — знала, видела или чувствовала некую фальшь в каждом слове тетушки своей. А Евдокия Головкина и впрямь приходилась ей теткой, только еще более дальней, чем троюродная, вдобавок, по свойству, а не по кровному родству. Она была теткою по матери той самой Анны Яковлевны, которая была кузиной и признанной любовницей графа Валерьяна Строилова, отца Марии. Мать Аннеты была по мужу Строилова — имя этой всеми забытой, умершей при родах женщины и присвоила себе Евдокия Головкина, одним махом прихватив и никогда не принадлежащий той титул, ибо отец Аннеты был младшим сыном в семье. Умная, дерзкая, хорошо образованная, обладающая редкостным чутьем и умением распознавать характеры людей, Евдокия Строилова со своим любовником, одним из посольских русских чиновников, попала в Париж, свела там нужные знакомства; ее имя и протекции открыли ей путь ко французскому, а затем и к русскому дворам. Однако, хоть в те времена паспортов и удостоверений личности никто ни у кого и не спрашивали, хоть «графине Строиловой» везде верили на слово, встречая по весьма авантажной одежке и провожая по недюжинному, острому уму, сама-то Евдокия про себя знала, что «Евлалия Строилова» — всего лишь маска, которая всегда может соскользнуть… и решилась наконец не мытьем, так катаньем добиться титула, который вполне мог бы принадлежать ее племяннице Аннете, когда б не злоехидная воля императрицы Екатерины. Хитромудрая Евдокия Головкина собрала все сведения о Елизавете, о ее прошлом и настоящем, о Машеньке, наследнице титула и строиловских богатств, и ринулась было в Любавино, да тут, в придорожном трактире неподалеку от Санкт-Петербурга, судьба вдруг и сдала ей ту чудо-карту, которая не всегда выпадает и самому везучему игроку.
Единожды подфартив, Евдокии продолжало фартить и далее. Словно по мановению волшебной палочки, сбывалось все, что она задумала; Вайян и Жако подчинялись ей рабски: первый — пытаясь спасти жизнь матери, второй — по врожденной тупости и жестокосердию. Но мать Вайяна скончалась в заточении, и он решился отомстить своей «нанимательнице», сорвать ее замыслы, — потому и предупредил Марию о подготовке похищения Корфа, — однако не желал при этом упустить заработка, оттого и принял участие в похищении. Мария, по счастью, об этом не подозревала — каково было бы ей узнать, что ни малой опасности Корф все же не подвергался; не симолинские агенты, так Вайян уберег бы его в любом случае! — зато она была поражена и напугана злокозненностью своей «la bonne tante» [186], а потому ее неприятно поразила глубокая печаль, прозвучавшая в словах Симолина: «Умерла графиня Строилова!»
Впрочем, проницательный дипломат не дал пожару возмущения разгореться в сердце своей собеседницы и поспешил объясниться:
— Верно, вы, милая Мария Валерьяновна, и знать не знали, что сия дама немалые услуги оказывала российской дипломатии. Связи у нее были преогромнейшие, цепкость мысли необыкновенная. Среди нас, профессионалов, она достижениями своими нешуточно славилась…
Маша встрепенулась. Из глубин памяти выплыло освещенное серым петербургским рассветом злое лицо Корфа, его исполненный горечи голос, и она безотчетно повторила, словно под диктовку:
— «…графиня Строилова, одна из ближайших наперсниц княгини Ламбаль, двойной агент, равно старающийся и для канцелярий Безбородко, и для Монморена…»
Симолин чуть присвистнул:
— Ого! Я всегда догадывался, что вы не так просты, как хотели бы казаться.
Мария слабо улыбнулась:
— Уж и не знаю, принять ли сие за комплимент.
— Безусловно! — с жаром воскликнул Симолин. — И я рад, что можно обойтись без долгих предисловий. Короче говоря — и говоря короче: поскольку отчасти (невольно, разумеется!) и вы повинны в том, что графиня вышла из нашей игры, прошу вас нынче же вечером заменить ее в деле, требующем крайней секретности.
Мария растерянно моргнула. Пожалуй, те слова — мол, не так просты — все же не были комплиментом.
— Как это?
Симолин взял ее руки в свои ладони:
— Вы выглядите несколько… э… э… озадаченной.
«Глупой», — поняла Мария.
— Вижу, что без коротенького предисловия все же не обойтись. Нынче я зван на музыкальный вечер к баронессе д'Елдерс на улицу Фавар. На самом деле она никакая не баронесса, а — тысячу раз прошу прощения! — prostituee internationale [187]. Ее настоящее имя просто Этта Любина Иоганна Елдерс, по мужу Палм. Прежде ее содержал первый министр, граф Жером Фелипо Морепа, однако пять лет назад он отдал Богу душу, а очаровательная Этта ведет прежнюю хлебосольную и любвеобильную жизнь в своем роскошном особняке. Конечно, граф оставил ей кое-какие средства, но теперь у нее роман с голландским послом, есть кто-то и в австрийском посольстве, с некоторых пор она и под меня клинья подбивает… а что?! — обидчиво воскликнул Симолин, заметив, как весело взлетели брови Марии. — Последнее это дело — смотреть на мужскую красоту: ежели от мужчины не шарахается лошадь, значит, хорош.
Мария украдкой прыснула, потом расхохоталась в голос. Иван Матвеевич напыжился было, да не смог сдержаться — махнул рукой и тоже засмеялся.
— Так вот, она хоть и очень вертопрашна, зато пригожа и любезна. Однако не по моим деньгам! Ей из Лондона постоянно по сорок тысяч фунтов стерлингов присылают при посредничестве некоего Иоганна Мунника, ее бывшего любовника, позднее — английского консула на Сицилии, а ныне — одного из столпов английской разведки. Ибо красавица наша — не просто internationale эта самая, а вдобавок espionne internationale [188], и мне до смерти нужно знать, что содержится в том вышитом индийском ридикюле, который она нынче вечером получит в подарок от голландского посла.
— Еще только получит? Но как вы можете знать… — Мария осеклась.
Симолин пренебрежительно отмахнулся:
— Это все мелочи… Сами знаете, у Димитрия Васильевича кругом есть свои люди: и в голландском посольстве, и в австрийском, и при дворе… и так далее. Конечно, carent quia vate sacro [189], да и о нас тоже, но дело, смею надеяться, все мы делаем немалое. Посему предлагаю к нашему содружеству присоединиться и заглянуть нынче вечером в индийский ридикюль баронессы, извините за выражение, д'Елдерс.
Мария отвернулась к окну. Сердце как заболело при упоминании о муже, так и ныло не переставая. Это уже стало привычным: игла в сердце при воспоминании о Корфе, при звуке его голоса, при встречах с ним, с его отсутствующим взглядом. В том-то и беда, что ничегошеньки она о муже своем не знает — и уж не узнает никогда — ни о нем, ни о делах его!
А впрочем… why not — почему нет?! — как говорят англичане. Почему бы как раз сегодня и не узнать о его делах подробнее?
Это же просто чудо, какой шанс дают ей жизнь, и насмешливая судьба, и великодушный Иван Матвеевич! Верно, никто из всех этих «своих людей», которые есть у Корфа кругом, из всех этих espions [190], не в силах узнать о содержимом ридикюля. И даже сам барон не может. Могла бы тетушка Евла… тьфу, эта, как ее там… А коли она могла бы, то и Мария сможет. И почти забытое блаженство — ощущение бодрящего холодка меж плеч, небывалого обострения всех чувств, феерического восторга — заиграло, забилось в душе, будоража, опьяняя, словно шампанское. Мария лихорадочно потерла свои ледяные ладони, с облегчением почувствовав, как отступает боль в сердце. Резко повернувшись к Симолину, который наблюдал за нею чуть исподлобья, старательно скрывая волнение, она выпалила:
— Я согласна! У вас есть какой-то план или мне следует все придумать самой?
Симолин закинул голову, словно его крепко ударили в подбородок, и подошел почти вплотную к Марии, снизу вверх заглядывая в ее блестящие глаза: один был темно-карий, таинственный, другой же горел желто-зеленым огнем.
— Я всегда знал, что лучшее орудие против женщины — другая женщина! — улыбнулся посланник.

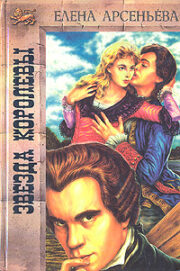
"Звезда королевы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Звезда королевы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Звезда королевы" друзьям в соцсетях.