Он сладострастно застонал, награждая недвижимую «Николь» пылким поцелуем и привлекая ее руку туда, где вновь приготовлялось к бою его могучее орудие.
— При одной мысли о ней — ты видишь, что со мной происходит! Сам себе удивляюсь! Я готов жизнь положить к ногам этой женщины… да на что я ей! Весь вечер эти дивные глаза следили за бледным, невыразительным лицом барона, и я смиренно осознавал: весь мой пыл повергнет она во прах ради единого чуть тепленького словца, исторгнутого из уст ее хладнокровного супруга. Но этим же вечером я вот что еще понял: ее счастие для меня отныне — смысл жизни. И если для счастия баронессы нужно, чтобы барон возлежал в ее постели, значит, я должен сего добиться. Вот я и решил принести себя, свою любовь в жертву обожаемой женщине — подобно благородым тем рыцарям средневековья, которые служение Прекрасной Даме ставили превыше жизни своей!
Он умолк, но эхо его патетических признаний, чудилось, еще витало в комнате.
Мария, наверное, должна была чувствовать себя польщенной, однако единственным ее чувством сейчас была жалость: «Бедная Николь! Слушать такое — да о ком? О женщине, которую она ненавидит, презирает, считает ничтожеством! А этот… „рыцарь средневековья…“, в своем ли он уме, что признается женщине, с которой только что неистово предавался любви, в обожании другой? Да ему повезло, что здесь я — Николь ему бы уже давно глаза выцарапала за подобные откровения. Боже, ну и история… Нет, а как мне-то быть теперь? C'est terrible! [159] Вообразить такое невозможно!»
Однако тотчас же выяснилось, что еще далеко не все сюрпризы, приготовленные для Марии судьбою, исчерпаны, ибо незнакомый обожатель, враз посерьезнев, проговорил:
— Николь, у меня к тебе предложение, я хочу, чтобы ты оставила барона и переехала в домик, который я найму для тебя в хорошем месте, не в такой дыре, как эта улица Старых Августинцев. К домику будет приложено весьма солидное содержание. Ты не пожалеешь, клянусь! Я богат, я щедр. Я моложе барона и, уверен, куда лучше его! Судя по трепету твоего тела, который я ощущал этой незабвенной ночью, ты в полной мере разделила мое счастье. Сознаюсь, Николь: явившись на это rendez-vous [160], я намеревался всего лишь соблазнить тебя, а затем скомпрометировать перед бароном, чтобы обратить его взоры к прекрасной, нежной, несправедливо забытой Марии. Однако после сегодняшней ночи я не хотел бы с тобою расставаться. Tant mieux [161]! Если Мария завладела моей душой, то ты завладела моим телом, и я прошу тебя оставаться моей всецело!
Он подождал ответа… напрасно: в комнате царила тишина.
— Ты молчишь? — шепнул этот безумец — Мария не могла полагать его никем иным. Слава Богу, наконец-то заметил, что «Николь» молчит всю ночь! — Ну что ж, я понимаю, тебе надо подумать, собраться с мыслями. Только умоляю: не отказывай мне сразу, не поддавайся обиде; призови на совет всю свою практичность и рассудительность и оцени выгоды моего предложения. — Он зевнул. — Ох, все кости ломит… Ну и схватка была!
Он вскочил с кровати, с блаженным стоном потянулся и, ощупью пройдя к окну, рывком раздвинул шторы, так что низко повисшая, полная белая луна, чудилось, прильнула к самому стеклу, заливая комнату таким неожиданно ярким, всепроникающим светом, что Мария, все еще распластанная на постели — от множества испытанных потрясений даже и в голову не пришло кинуться бежать! — невольно заслонилась ладонью.
— J'aime la lune, quand elle éclaire un beau visage! [162] — будто из-за тридесяти земель донесся до нее голос, а потом ее нечаянный любовник вновь оказался рядом, шептал: — Николь! Я хочу видеть тебя, Николь! Я хочу любить тебя, купаясь в лунном свете!
Он легко, не обратив внимания на сопротивление, отвел ее руки от лица, склонился к губам… их взоры встретились.
Миг оба смотрели друг на друга, большие черные глаза, уставившиеся на Марию, сделались огромными… она тоже ощущала, как расширяются от изумления ее зрачки, а потом оба разом отпрянули друг от друга, вскричав в один голос:
— Это вы?!
Итак, незнакомец все же узнал в «Николь» баронессу…
Впрочем, почему незнакомец? Мария тоже узнала его. Это был Сильвестр.
Она даже и не предполагала, что живет в таком огромном доме. Сколько лестниц, переходов, поворотов, пустых залов… Мария брела, едва прикрытая клочьями рубашки, волоча за собой пеньюар. Не было сил одеться. Кто-то из слуг мог попасться навстречу, но ей было все равно, увидит ли ее кто-нибудь и что он подумает. Хотелось только добраться до постели и уснуть! Последнее объяснение с Сильвестром лишило ее последних сил.
Она шла, едва передвигая ноги, опираясь о стены, хватаясь за мебель, тащилась, будто тяжелобольная, с застывшим, невидящим взором сомнамбулы, а в памяти еще мелькало искаженное отчаянием лицо ее нечаянного любовника, еще звучал его стон: «Простите, простите меня!» Простить его — за что? Он виноват только в благих намерениях, коими, как известно… ну и так далее. Сильвестр — человек быстрых решений. Вчера он избавил Корфа от дуэли, мгновенно сообразив, что делать, назвав забияку позорным именем аббата Миолана. Точно так же стремительно бросился он на помощь женщине, которую полюбил с первого взгляда. Он не хотел ничего плохого, Мария тоже не хотела ничего плохого. А получилось-то… ох, Боже мой!
Припомнив некоторые подробности своей попытки сделаться добродетельной женщиной, Мария привалилась к перилам и хрипло рассмеялась.
Ох, и шуточки выкидывает с ней судьба! Ну, знаете ли… это уж слишком!..
Что такое? Она произнесла это вслух? В таком случае здесь, в коридоре второго этажа, очень странное эхо: грубое, раскатистое — напоминающее мужской голос, который хрипло, возмущенно выкрикнул:
— Ну, знаете ли… это уж слишком!
Мария оглянулась. У дверей своего кабинета стоял Корф и смотрел на нее так, словно не верил своим глазам, Мария улыбнулась, покачала головой — она тоже не поверила своим глазам, и, отмахнувшись от него, как от призрака, пошла было дальше, но тут «призрак» сильным рывком остановил ее и втолкнул в кабинет, захлопнув за собой дверь.
Мария тупо смотрела на него.
Ну и ну… Впрочем, это она уже, кажется, говорила. Так ждать его нынче ночью, натворить во время этого ожидания черт-те каких глупостей — и встретить его именно в ту минуту, когда ей вообще никого, ни единого человека видеть было никак нельзя! Нет, это что-то… что-то… Она невольно вздохнула, увидев брезгливое, ненавидящее лицо барона, увидев в его ледяных глазах свое отражение: измятая, всклокоченная, измученная, полуголая. Боже, что он может о ней подумать! А что еще можно о ней подумать, кроме истины?..
— Я и сам хотел посоветовать вам завести любовника, — наконец разомкнул губы барон. — Это несколько развлекло бы вас, привязанную волею судьбы к человеку, которого вы ненавидите. Но я не предполагал, чтобы это происходило в моем доме. Все-таки соблюдать определенные приличия следует, даже нарушая их!
— Я… ненавижу вас? — прошептала Мария. — Я — ненавижу? Да я вас… я вас…
Она осеклась, увидев, как цинично усмехается барон, глядя на нее.
— Поразительно! — воскликнул он. — Просто поразительно! Я был обманут вами с первого мгновения нашего знакомства, я знаю вашу цену с точностью до последнего гроша, я вижу вас насквозь, и все-таки…
— Пятьдесят тысяч ливров, — как во сне произнесла вдруг Мария, в памяти которой всякое упоминание о деньгах вызывало теперь лишь одну, совершенно определенную цифру, но Корф не обратил никакого внимания на ее слова, как бы и не слышал их.
— И все-таки вчера вечером я внезапно поверил, что игра моя еще не проиграна, что я, пожалуй, судил вас слишком сурово, что немалая и моя вина в том, как мы живем, что клятва, данная мною, была несправедлива…
Мария подняла на него глаза. Он ли это говорит?!
— Вчера вечером, чудилось мне, искра вспыхнула меж нами. Я рвался в драку с этим идиотом, «аббатом Миоланом», чтобы снова и снова ощутить прикосновение ваших рук, почувствовать вашу тревогу за меня. Сердце мое пылало от счастья. Этой ночью я пойду не к Николь, а к своей жене, к своей любимой! Забуду о своей клятве, думал я… малодушно думал я! Мною вновь овладела та же любовь к вам, что и пять лет назад. Их не было, пяти лет ревности, обиды, тоски, нарочитой ежедневной мстительной измены вам — в отместку за вашу ложь!
Корф тряхнул головой и умолк, словно опять задумался об этих пяти годах их мучительного брака.
Мария тоже молчала, но глядела на мужа с такой мольбой, словно от его дальнейших слов зависела ее жизнь. И он заговорил тихо, как бы нехотя:
— Я не стал предупреждать вас о намерении своем, опасаясь услышать отказ или увидеть его в ваших глазах. Я решил: просто приду… просто обрушу на нее всю свою страсть — и сумею зажечь ее ответной страстью! Но дома меня ждал посетитель…
Мне пришлось уехать, однако ни разу еще я не был столь равнодушен к тому делу, которое составляет суть моей жизни, как сегодня. Я вернулся так скоро, как мог; сразу кинулся в вашу комнату… она была пуста! Я не мог поверить своему несчастью, я поднял с постели вашу субретку и едва не вытряс из нее душу, выпытывая, а потом чуть не на коленях вымаливая, — где и с кем моя жена. Да куда там! Она залила все вокруг своими дурацкими слезами, но не проронила ни звука. Однако же, едва я выпустил ее, она попыталась куда-то бежать — предупредить вас, как я теперь понял! — Он брезгливо дернул за края рваной рубашки, которые Мария безуспешно пыталась стянуть на груди, и тут же отвернулся с миной отвращения на лице.
— Осознав, что обманут — вновь обманут! — я решил выплакаться в пышное, привычное плечико Николь, — он коротко, злобно хохотнул, — и отправился к ней.
При этих словах у Марии обморочно подогнулись ноги, и она принуждена была опереться о край стола, чтобы не упасть.

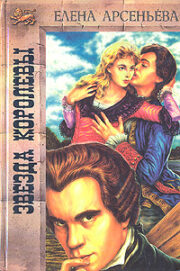
"Звезда королевы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Звезда королевы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Звезда королевы" друзьям в соцсетях.