И, сделав реверанс, Николь выскользнула из комнаты.
В Париже было пять главных театров: Большая опера; Французский театр; Итальянский театр; графа Прованского, более известный под названием «Theatre de Monsieur»; и варьете. Всякий день игрались в них спектакли, и всякий день бывали они наполненными людьми (в шесть часов вечера билетов уже не достать ни за какие деньги!), желающими вновь и вновь видеть мгновенную смену декораций, способную рай мигом превратить в ад; и полет искусных танцовщиков; и исполненную страсти жестикуляцию драматических актеров; и лица, столь прекрасные или ужасные, какими не бывают обычные человеческие лица; и слышать голоса и речи, исторгающие у зрителей то безудержный смех, то неутешные слезы, — словом, желающих снова и снова испытать в один вечер такой сонм страстей, что не у каждого и за всю жизнь столько наберется, было предостаточно.
На премьере зал всегда был переполнен, и у Марии от духоты слегка кружилась голова. Она с мужем и еще двумя-тремя знакомыми сидела в особой ложе; перед самым началом появился и господин посол. Иван Матвеевич Симолин оказался невысоким плотным круглолицым человеком с проницательным взглядом черных глаз. Мария присела перед ним, робея не столько самого этого человека, сколько того, что она вершка на два превосходила его высокопревосходительство. Однако Симолин с видимым восхищением окинул взглядом стройный стан Марии, выгодно подчеркнутый образцом elegantiarum [145] — синим платьем из тончайшего бархата с низким декольте, открывающим шею, плечи и грудь безупречных очертаний. Русые волосы Марии были с продуманной вольностью разбросаны по плечам и перевиты шелковыми нитями, украшенными жемчугом, мягкий отблеск которого придавал ее взволнованному лицу некую таинственность.
Впрочем, хотя в глазах Симолина Мария прочла восторженное изумление, он ограничился доброжелательным приветствием, не сделав ни одного комплимента ее красоте, и тотчас заговорил о достоинствах молодого актера Мишю, которому предстояло играть роль Петра и который был, по слухам, живым портретом русского государя. И Мария подумала, что Симолин, верно, очень проницательный человек, если с одного взгляда уловил, что барон Корф не принадлежит к числу тех людей, которых приводят в восторг славословия, расточаемые их женам. Возможно, конечно, до Симолина дошли некие, les on-dits [146] о не самых теплых отношениях между супругами, а потому он не ступил на скользкую почву обмена светскими любезностями, опасаясь совершить бестактность. Так же внешне сдержан оказался и еще один собеседник — его представили Марии как господина Сильвестра, близкого друга Корфа. Это был высокий яркий брюнет, красивое лицо коего портило лишь надменно-отчужденное выражение. Строго говоря, собеседником его назвать было нельзя: он вообще не произнес ни единого слова, не поддерживал общего разговора, только слушал, смотрел — вернее, скользил взором вокруг, и лицо его оставалось по-прежнему скучным; и хотя Мария порою ловила его взгляд, глаза Сильвестра оставались непроницаемо-холодны. Этим он напомнил ей барона; кажется, они и впрямь были близкими друзьями! Видеть презрительное отчуждение на лице мужчины ей и без Сильвестра изрядно осточертело, а потому она перестала обращать на сего безмолвного господина внимание. Мария чувствовала себя обделенной. Она вдруг всем сердцем возжелала самых пустяковых и даже банальных словесных перлов, какие обычно принято щедрою мерою дарить хорошеньким женщинам. Ей хотелось этого именно сегодня, сейчас, чтобы привлечь глаза и сердце мужа к своей красоте и прелести, чтобы взволновать его! Он ведь мгновенно забыл о существовании своей жены и принялся вместе с Симолиным оживленно обсуждать одну забавную историю.
Несколько дней назад весь Париж собрался в Люксембургском саду, клюнув на объявление в газетах: некий аббат Миолан намеревался подняться в небо на воздушном шаре. Шар мерно колыхался, достигая своей круглой макушкою вершин самых высоких каштанов, однако отважного воздухоплавателя видно не было. Ждали два, три часа, шар не поднимался. Публика нетерпеливо спрашивала: когда начнется эксперимент? Появившийся наконец аббат важно расхаживал вокруг шара, отвечая: «Через несколько минут!»
Время шло. Аббат ходил туда-сюда, то и дело облизывая палец и подымая его, чтобы определить направление ветра, хотя лишь слепой не мог не видеть, что вершины деревьев чуть клонятся к востоку: ветер, стало быть, дул западный. Зрители с восторгом и благоговением следили за действиями воздухоплавателя, вернее, за его бездействием, и в конце концов собравшимся все это надоело; народ бросился на аэростат, изорвал его в клочки и смял корзину. Аббат Миолан спасся бегством. На другой день в Пале-Рояле и на всех перекрестках мальчишки кричали, размахивая только что отпечатанными газетами: «Кому надобно изображение славного путешествия, счастливо совершенного славным аббатом Миоланом, — всего за одно су, одно су!»
— Сей осторожный смельчак умер гражданской смертью, — уверял теперь Симолин.
Корф усмехнулся:
— Горе герою, который придется не по нраву своим почитателям! Тогда он увидит, что был всего лишь марионеткою в руках толпы.
Симолин вскинул свои редкие брови, похожие на две перевернутые запятые:
— По-вашему, народ сам делает для себя лидера?
— Избирает его, — поправил Корф. — Это лишь иллюзия, будто некий человек способен ни с того ни с сего явиться и взбудоражить толпу нелепыми идеями. Он всего лишь умелый дирижер, способный извлечь мелодию из нестройной игры разных инструментов. Однако без оркестра он всего лишь жонглер с палочкою в руках.
— Вы отрицаете роль отдельно взятой личности в движении масс? — с удивлением спросил Симолин.
— Я утверждаю ее! — с почтительным полупоклоном ответил Корф. — Хвала и слава умелым дирижерам. Однако беда, коли собственная игра приестся оркестру, — тогда он сомнет того несчастного, который принудил музыкантов играть не то и не так! Все дело лишь в удаче, в благосклонности Истории…
Мария смотрела на барона с любопытством. Она не совсем понимала, о чем идет речь, но видеть мужа таким оживленным, воображать, что он обращается не только к Симолину или безмолвному Сильвестру, но и к ней, ее пытается убедить, — о, это было замечательное ощущение!
— Однако, — заметил Иван Матвеевич, — однако сейчас нам как раз предстоит увидеть лицо, к которому История была весьма благосклонна.
Он оказался прав: тотчас заиграла музыка и раздвинулся занавес — спектакль начался.
Действие мелодрамы «Петр Великий» происходило недалеко от границ России, в какой-то маленькой деревеньке на берегу моря, где русский государь под видом плотника Петра с другом своим Лефортом учится корабельному искусству и всякий день трудится на пристани. Мишю был в самом деле очень хорош в этой роли; во всяком случае, сердца русские не желали видеть подмены. Актриса Роза Рено, милая девушка лет двадцати, которую считали в ту пору лучшей певицей в Париже, играла роль молоденькой, прелестной вдовы Катерины, в которую влюбился пылкий во всех движениях сердца государь и открыл ей страсть свою. Катерина тоже безмерно влюблена, и Петр поклялся быть ей нежным супругом, слово его свято. Лефорт, оставшись наедине с государем, недоумевал и в то же время восхищался: «Бедная крестьянка будет супругою моего императора! Но ты во всех своих делах беспримерен, — ты велик духом своим; хочешь возвысить в отечестве нашем сан человека и презираешь суетную надменность людей; одно душевное благородство достойно уважения в глазах твоих; Катерина благородна душою — итак, да будет она супругою моего государя, моего отца и друга».
На этом завершилось первое действие; сдвинулись створки тяжелого занавеса, актеры вышли с поклонами; начали зажигать кругом свечи.
Мария отстранилась в тень. Пьеса глубоко взволновала ее и трогательными любовными объяснениями, и той идеей подмены, прекрасного недоразумения, коя была положена в основу сюжета. Удивительное совпадение! И нынче же вечером… Нет, лучше пока не думать о том, что предстоит. Мария сознавала, что смятение чувств не могло не отразиться на ее лице, а потому, поймав взгляд Корфа, она приняла самое равнодушное выражение, отвернулась, чтобы тут же наткнуться на взгляд господина Сильвестра. Этот смутил ее вовсе, а потому она была довольна, когда Симолин пригласил всю компанию пройти в фойе, которое, по его словам, тоже было своего рода salle de spectacle [147] — только не вымышленным, а реальным.
Однако действительность не слишком влекла Марию, и она с нетерпением ждала, когда антракт наконец закончится и начнется второе действие.
На сцене происходил предсвадебный сговор. Все жители приморской деревеньки, от старцев до юных девиц, поздравляли жениха и невесту и желали им любви и счастья. Государь был тронут до глубины сердца. Знали, что Лефорт имел приятный голос; вот и попросили его спеть какую-нибудь старинную песню. Подумав, он взял цитру и запел:
Жил-был в свете добрый царь,
Православный государь.
Все сердца его любили,
Все отцом и другом чтили…
Далее речь шла о том, как царь, побуждаемый желанием быть отцом и просветителем своего народа, странствует по свету, обучаясь всему лучшему, что создано умом и трудолюбием человеческим.
Всем понравилась песня Лефорта, особенно Катерине, которая прониклась восхищением к неведомому ей Петру Великому…
Действие пьесы продолжалось. Приехал Меншиков, вызвал императора и рассказал ему, что в России прошел ложный слух о его смерти, что злоумышленники подстрекают народ на бунты, — и сказал, что царю непременно следует возвратиться в Москву в сопровождении верного Преображенского полка.
Петр исчез из деревушки, Катерина тщетно искала его, а узнав, что он внезапно уехал, оставил ее, впала в жестокую болезнь. Однако, очнувшись, она узрела у ложа своего не кого другого, как любезного Петра, одетого уже не в платье бедного работника, а в роскошные царские одежды. Государь открыл ей все и провозгласил: «Я хотел обладать нежным сердцем, которое любило бы во мне не императора, но человека: вот оно! Сердце и рука моя твои, прими же от меня и корону! Не она, но ты будешь украшать ее!»

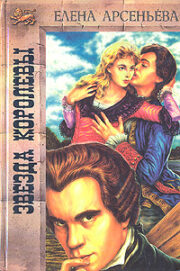
"Звезда королевы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Звезда королевы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Звезда королевы" друзьям в соцсетях.