Но сегодня Глашеньке удалось избавиться от забот Николь и броситься на улицу Венеции, где жила мамаша Дезорде, чтобы назначить время для прихода своей госпожи… и вот Мария уж все глаза проглядела, а горничной все нет да нет!
Настроение было сквернейшее, с утра беспрерывно мутило, и Мария, с тоской глядя в огонь, поклялась, что, если только удастся на этот раз шито-крыто устроить свои дела, она больше и близко не подойдет ни к какому мужчине… разве что сам барон наконец пожелает иметь ее в своей постели. На это, правда, было мало надежды — и даже сейчас, в минуту крайнего отчаяния, у Марии нашлись силы возроптать на судьбу, которая двух людей, стремящихся к взаимной любви, превратила, можно сказать, во врагов.
Какой-то звук прервал ее невеселые размышления. Чудилось, кто-то мелко стучится в окно. Мария распахнула створки: в саду стояла Глашенька и швыряла в стекло мелкие камушки и сухие веточки, причем лицо ее было таким бледным и перепуганным, что у Марии упало сердце. Глашенька сделала было движение к крыльцу, но Мария остановила ее властным жестом и помогла влезть прямо в окно.
Руки у горничной были ледяные, ее всю трясло, и Мария первым дело подвела Глашеньку к камину, ничуть не сомневаясь: Николь обо всем донесла барону, тот перехватил Глашеньку и подвергнул ее столь суровому допросу, что бедняжка не выдержала — и выдала свою госпожу. Она почти убедила себя в этом и немало изумилась, когда Глашенька, справившись наконец с ознобом, кое-как выговорила:
— Не нашла я ее! Она уехала!
И Марии показалось, что бездна разверзлась пред ней…
Мамаша Дезорде, безвылазно, годами сидевшая в своей лачуге неподалеку от Большого Рынка, вдруг получила известие о смерти своей сестры и тотчас отправилась в деревушку близ Фонтенбло, чтобы успеть взглянуть на наследство прежде, чем на него наложат лапу другие родственники. А когда она воротится и воротится ли вообще, соседям было неведомо, хотя все они в один голос молили Бога о том, чтобы никогда больше не видеть сию старуху, промышлявшую таким дьявольским ремеслом: недаром имя Дезорде по-французски означает «непорядок»!
У Маши при этом известии ноги подогнулись, и она сделалась столь же бледная и дрожащая, как и Глашенька. Такими их и нашел обеспокоенный Данила, — но не стал соучастником их отчаяния, а тут же предложил выход: немедленно отправиться ему в эту hameau [113], отыскать мамашу Дезорде и привезти ее в Париж. Он поклялся, что справится во что бы то ни стало, и ежели ему придется сгрести повитуху в охапку и всю обратную дорогу нести на руках, то он понесет ее!
Маша вновь едва не зарыдала — на сей раз от облегчения. Она понимала, что сама-то никак не могла вызвать к себе такой любви и преданности Данилы, — это он по гроб жизни полагал себя обязанным княгине Елизавете, на которую всегда смотрел снизу вверх, как на небожительницу, зачем-то сошедшую на землю, но на дочку падал отсвет очарования матери, а стало быть, Данила почитал своим долгом верно служить и Марии Валерьяновне. Поцеловав руку барыне и приняв от нее благословение, Данила ринулся на конюшню, и ближайший час Мария пребывала в блаженном спокойствии… пока ей не доложили, что какие-то добрые люди принесли беспамятного Данилу, который, не доехав и до окраины города, упал с запнувшегося коня, сильно расшибся и даже сломал ногу.
Поднялась суматоха, позвали врача. Тот наложил лубки и предписал больному полный покой. Из глаз Данилы текли слезы, но не от боли или жалости к себе, а от жалости к своей госпоже, помочь которой он сейчас уже не мог… Да и никто не мог ей помочь!
Почти до утра просидели Мария с Глашенькой у постели Данилы; лишь перед рассветом спал у него жар, он забылся сном, и Маша ушла к себе, легла… но сон бежал от нее.
Отчаяние, отступившее было из-за хлопот вокруг Данилы, вновь приступило. Неужто придется ожидать возвращения либо тетки, либо мамаши Дезорде? Но графиня Евлалия может и не знать никого из нужных людей, а повитуха вовсе не обязательно воротится скоро… А вдруг она вовсе решит остаться в деревне? Месяца через два состояние Марии начнет себя явно выказывать. Конечно, корсеты и пышные юбки помогут скрывать неуклонно раздающуюся вширь фигуру… да какой в том прок?! И даже ежели через месяц, через два помощь придет со стороны тетки, со стороны повитухи ли, как выдержать эти месяцы, когда каждый день — пытка жесточайшая! Понять, что такое изнурительная, отвратительная тошнота с утра до вечера, отбивающая вкус ко всякой пище и жизни вообще, может только беременная женщина… а ежели она еще и не хочет вынашивать ребенка, то страдания ее усугубляются тысячекратно, ибо к пытке телесной присоединяется и душевная.
Небо чуть просветлело. Было часа три утра, скоро настанет рассвет, а сна у Марии не было ни в одном глазу, и мысль, краешком задевшая ее сознание, когда она увидела беспомощного Данилу, но тотчас же пугливо улетевшая, сейчас снова воротилась и настойчиво закружилась в голове.
А что, если… Нет, это безумие! Да почему, собственно?
Глашенька при ней рассказывала Даниле, где искать в деревушке дом мамаши Дезорде — соседи подробно ей поведали обо всем, заблудиться просто невозможно. До Фонтенбло день езды в карете, а верхом, конечно, скорее, часов шесть, ну, восемь. Вопрос, выдержит ли она эту дорогу… давно не езживала на такие расстояния, с того страшного дня, когда срубленное дерево упало на пути златоногой Эрле. Ну, не выдержит — тем лучше. В конце концов, у Анны Австрийской, жены Людовика XIII, случился выкидыш, когда она прыгала с Мари де Шеврез через канаву… Так почему бы баронессе Корф не избавиться от нежелательного бремени, проскакав шесть-восемь часов верхом? Впрочем, сие из области мечтаний. Реальность же состояла в том, чтобы незаметно вывести из конюшни самого быстроногого коня и тайком выбраться за ворота. Мария хлопнула себя по лбу: да ведь пока удача на ее стороне! Коня, на котором поехал Данила, оставили в платной конюшне на окраине города, где-то возле церкви Святого Габриэля. Дело теперь только за тем, чтобы туда добраться, а уж потом — в путь!
Она еще обдумывала детали своего безумного предприятия, а сама уже отворяла шкафы, разыскивая подходящее платье — попроще и поудобнее, длинный плащ… Так, провизию брать не стоит, у Данилы были полны чресседельные сумки, взять только денег… о, какое блаженство — платье без корсета и кринолина, как хорошо — просто заплести волосы в косу! Мария решила ни в коем случае не открывать sage-femme своего общественного положения и выдать себя за небогатую горожанку. Проворно одевшись, невесомо перебежала в Глашенькину комнатушку и, разбудив спящую горничную, наказала ей хорошо ходить за Данилою, а всем сказывать, будто барыня, из-за сломанной его ноги переволновавшись, слегла и беспокоить себя не велела. Мария надеялась, что более двух суток ее поездка никак не займет, а бывало, и время более долгое она барона не видела, так что мало вероятия, что ее mari nonchalant [114] вдруг хватится своей нелюбимой жены.
Свойство натуры Марии было таково, что, раз решившись на что-то, она уже не желала видеть на пути к своей цели никаких препятствий, даже если трезвый разум и напоминал о них, и, право, могло показаться, что эта ее оголтелая решимость таинственной силою своей и впрямь устраняла все преграды и как бы изменяла ход событий, перестраивая их, переиначивая… Марии чудилось, что она — как птица, которая ловит ветер — и несется в его потоке, однако в том направлении, кое необходимо ей. Вот и сейчас — ветер удачи вынес ее из дому, помог перебраться через ограду, очень кстати поразвалившуюся в укромном уголке сада, и понес по спящей улице, пока ее не обогнал первый фиакр, в который она тут же и вскочила, приказав везти себя к церкви Сент-Габриэль, да как можно скорее.
Париж еще спал, однако к Цветочному рынку уже приближались фургоны, полные хрупкого, ароматного товара: Мария с изумлением отметила, что у нее не вызвал тошноту свежий, влажный запах только что срезанных цветов, и восприняла это как своеобразное одобрение своему поступку.
Конюшню она нашла быстро; хозяин, поднятый с постели, правда, поворчал, но коня отдал, даже дамское седло предложил и был изумлен немало, когда хорошенькая дамочка, подобрав свои юбки повыше, так, что открылись прелестные ножки в кружевных дорогих чулках, по-мужски вскочила в седло и, нимало не заботясь об эпатаже, коему подвергает общественное мнение, с места взяла в карьер и погнала коня к юго-восточной заставе с такой скоростью, как будто за нею снаряжена была погоня в тысячу всадников.
Мамаша Дезорде оказалась весьма проницательной особой. Бросив один лишь взгляд своих тускло-черных глаз на молодую женщину в запыленном плаще, с растрепавшейся косою, едва стоявшую на подгибающихся ногах, вцепившись в повод загнанного, покрытого пеной коня, она озабоченно поцокала языком и проговорила:
— Кажется, я зря проклинала своих парижских соседей. Они заботятся, чтобы мой кошелек не опустел!
И Мария, почти теряя сознание от усталости, — путь занял не шесть, а десять часов, да и то дался ценою невероятного напряжения, — едва не заплакала от счастья, что никому ничего не надо объяснять: мамаша Дезорде все понимала и знала, что делать.
Только когда Мария, уже раздетая, лежала на покрытом чистой холстиной кухонном столе, мамаша Дезорде растопырив пальцы до красноты отмытых рук (у нее были замашки заправского хирурга), спросила своим грубоватым голосом:
— Ты уверена, что не хочешь этого ребенка?
Мария слабо кивнула. Ее неудержимо клонило в сон, но было ли это следствием усталости, или дурманило сладковатое, пряное питье, которым обильно напоила ее мамаша Дезорде, она не могла понять.
— Странно, что ты не выкинула после такой скачки. Небось не сходила с седла от самого Парижа? Значит, у тебя очень крепкая матка. Видно, придется мне с тобой повозиться!

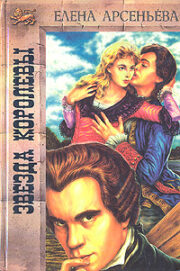
"Звезда королевы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Звезда королевы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Звезда королевы" друзьям в соцсетях.