Париж тревожил Машу… Однажды за утешением она вошла в католическую церковь во время обедни: все в душе ее противилось варварской пышности убранства; чужим, слишком тонким голосам, поющим гимны; приторному, совсем не русскому, запаху свечей и ладана; но сейчас любопытство и тяга к утешению оказались сильнее неприязни, да она и знала, что придется привыкать, если она не хочет отказаться вообще посещать храм Божий. В Париже-то ведь не было ни одной православной церкви. Оставалось уповать, что Бог с единым вниманием зрит сквозь все купола.
Она преклонила в укромном уголке колени и долго молилась, потом поставила свечи, неумело окунула пальцы в чашу со святой водой — и вышла с тем же сумраком в душе, с каким вошла сюда…
Как ни странно, успокоиться ей удалось под сводом другого Божьего храма — на берегу реки, под высоким небом. Ее всегда утешало зрелище просторной, мерно струящейся воды и колыханье зеленой листвы; она не представляла, что города могут стоять не на берегу реки… по счастью, этого недостатка Париж был лишен.
Сена была лучшим украшением города, его голубым ожерельем. Она входила в Париж на юго-востоке, у Венсенского леса, направляясь к центру, обтекая острова Сент-Луи и Сита, и почти подходила к Елисейским полям, но, делая петлю, плавно поворачивала на юго-запад и выходила за пределы города, огибая Булонский лес. Плавно, медленно, спокойно струилась серебряная Сена меж каштанов и платанов, склоняясь под мосты и вновь выходя на простор, неся на своих тихих водах зыбкое отражение этих мостов и этих каштанов и платанов… Над Сеной витал легкий, невесомый туман, из которого, как призрачный замок, выступал Нотр-Дам…
Но Маша предпочитала его мрачным очертаниям яркий ковер рынка цветов, раскинувшегося на самом берегу Сены. Она, конечно, знала, что все это великолепие заботливо взлелеяно в садах и оранжереях, а потом принесено в корзинах или привезено в сотнях фургонов, нагруженных доверху, со всех окрестностей Парижа и даже из Ниццы, Грасса, Лиона и других южных городов, — привезено, чтобы быть со вкусом разложено на прилавках; но хотелось думать, что она чудом перенеслась на некий цветущий луг, где, Божьей волею, загадочная камелия соседствует с дурманящей красотой мака, утонченная лилия уживается с пышной гортензией, роскошный георгин благосклонно кивает ландышу, а самонадеянный тюльпан пытается соперничать с царицей цветов. Видевши дома только шиповник, Маша вовсе потеряла от роз голову и познала на опыте всю правдивость крылатого изречения: «Не любить роз нельзя — они слишком прекрасны!»
Здесь, на рынке, Маше рассказали о «Капризе д'Артуа», находящемся в Булонском саду, и она, конечно, не упустила случая туда отправиться, чтобы увидеть замок, который граф д'Артуа, второй брат короля Людовика XVI, превратил в настоящий музей редкостей, истратив миллионы на его убранство и коллекции, а главное — основал там огромный, сказочный розарий.
Побывав там единожды, Маша стала ездить в Булонский сад всякий день, чтобы вновь и вновь смотреть на эти дивные цветы, созданные не из бархата, не из шелка, а из какой-то особенной, чудной материи.
Там были розы красные, как коралл, и самых нежных оттенков, и цвета алых губ, и цвета крови, и всех переливов пурпура, и лиловые, винно-красные, темные, как малина, или желтые, палевые, белые; одни веселые, смеющиеся, другие печальные, полные грусти; розы и для алтаря, и для буйства, и для влюбленных, и для поэтов — и это все были розы, которые цвели для всех.
Маша глядела на них, вся растворяясь в чарующем аромате, и слезы невольно набегали на ее глаза от невозможности выбрать лучшую, отдать предпочтение одной. Она не знала, куда глядеть, что вдыхать, чем любоваться. Хотелось бы их все обнять, заснуть в них — заснуть или умереть.
И вот что случилось однажды: в разгар этого самозабвенного созерцания голова вдруг закружилась так сильно, что Маша покачнулась и принуждена была опуститься на траву, — ноги подкашивались. Аромат опьянил, одурманил ее, тело сделалось слабым настолько, что она даже сидеть не могла и вытянулась на траве, сонно глядя в синее небо, по которому гнал ветер огромные белые облака… откуда-то издали долетали белые пушинки тополей, и Маша слабо улыбнулась, подумав, что порыв ветра оборвал края облаков и хлопьями роняет их на землю.
Но ветер буйствовал только в вышине, а здесь, на земле, где распростерлась Маша, царила сладкая духота. Запах роз был таким плотным, настоянным жаром, что Маше почудилось, будто она замурована в некоем розовом, благоухающем кристалле… она увязла в запахе роз, как мушка в янтаре, и никогда уже не сможет выбраться оттуда!
Эта мысль была нелепая, конечно, однако, побуждаемая ей, Маша кое-как заставила себя подняться и на подгибающихся ногах, хватаясь за гибкие, вьющиеся ветви, не замечая, что обрывает нежные лепестки, выбралась из розового лабиринта.
Она еще успела увидеть Данилу, озадаченно глядящего на нее от кареты, успела вдохнуть свежего, прохладного воздуха — и больше уже не помнила ничего.
…Она очнулась, полулежа на сиденье кареты. Данила гнал лошадей вовсю, и тряская рысь вызывала тошноту. Комок подкатывал к горлу, во рту был медный противный привкус, кружилась голова.
— Что со мной? — пробормотала Маша, едва шевеля онемевшими губами. — Что случилось?..
Кажется, она угорела от чересчур сладкого аромата роз, пробыла в розарии слишком долго, — от того и тошнота, и мерзкий привкус, и слабость… Ну не странно ли, что приходится вот так расплачиваться за чудные мгновения восторга, очарования… так женщины расплачиваются последующими страданиями за мгновенья сладостного забытья в мужских объятиях!
Маша содрогнулась и села, расширенными глазами глядя в окно, но ничего не видя. Послышалось — или впрямь произнес рядом чей-то голос: сначала деликатно, по-французски: «Pardonnez-moi ma franchise…[111]» — а потом, уже по-русски, ляпнул с грубой прямотой: «Наша малютка брюхата, n'est-ce pas?[112]»
Глава XIV
МАМАША ДЕЗОРДЕ
Мария стояла у окна библиотеки и с грустью смотрела на солнце, медленно опускавшееся за высокие крышы, золотившие черепицу.
Отошла к камину, протянула руки к огню — ее все время знобило. Ох, ну где же Глашенька? Уже час, как она должна вернуться! Конечно, вокруг Рынка места небезопасные, все эти харчевни — «Курящий пес», «Поросячья ножка», — где днем и ночью держат на огне луковую похлебку, покрытую пленкой сыра, для завсегдатаев… подозрительных особ! Конечно, на тех улочках не место для милой, наивной Глашеньки, — но как же, как же быть?!
Сообразив, что именно с ней произошло, Мария пришла в такой ужас, что несколько дней провела, забившись в постель, не в силах осознать неумолимость свершившегося. Ах, Вайян… какая сила нечистая толкнула Машу в его объятия?! Добро бы уж по жгучей любви, а то просто так — хоть минутная одолела! Неужели она распутна, порочна по природе своей, оттого и улеглась в постель с Вайяном без сомнений и колебаний? И даже в голову не пришло подумать о последствиях!
Самым ужасным было то, что история с Честным Лесом повторилась почти в точности, но теперь не было ни малейшей надежды скрыть положение — хотя бы под самой зыбкою завесою приличия. Мария предавалась отчаянию до тех пор, пока не спохватилась: слезами делу не поможешь, а время течет, как вода, неостановимо, и сколь ни оставалась она наивна в делах такого рода, даже ей было ведомо: чем раньше избавиться от бремени, тем лучше, не то, при позднем сроке, и помереть недолго. Она с точностью знала день своего зачатия: с той поры прошло ровно два месяца. Конечно, время у Марии еще было… да беда, не было никакой надежды на спасение!
Совершенно немыслимым казалось ей сознаться мужу, снова испытать этот позор — у страха хорошая память, как говорил Агриппа д'Обинье. Вдруг сорваться домой, в Россию, — для чего? Чтобы рожать там? Но какими глазами взглянуть в глаза матери? Что сказать ей? Ведь перед собой не может Маша слукавить, будто кинулась на шею Вайяну, желая смягчить свою участь… хотя, бесспорно, не утоми она его своими ласками, вряд ли ей удалось бы сбежать столь легко.
Нет, куда ни кинь, выходило одно: в незнакомом, огромном, чужом Париже следовало искать бабку, повитуху, как они тут называются — sage-femme, что ли?
Однако повитуха — не букет цветов, не курица, не придешь на Рынок да не спросишь ее. Немыслимо даже заикнуться о случившемся, спросить совета у тех дам, с которыми в посольстве свела знакомство Мария; а тетушка, как назло, уехала вслед за княгиней Ламбаль в Версаль, и никто не знал, когда она изволит воротиться. Вот так и получилось, что единственным человеком, который мог хотя бы отдаленно навести Марию на след какой-нибудь тайной sage-femme, оказалась Николь.
Конечно, нечего было и думать — самой прийти к ней. Лучше уж сразу — с камнем на шее кинуться в Сену с Аркольского моста! Пришлось довериться Глашеньке с Данилою — куда ж без Данилы! Ведь не кто иной, как он, должен был выступить в роли соблазнителя маленькой горничной! Но уж тут Мария покривила душой и без зазрения совести представила дело так, будто пала жертвою насилия, заплатив своим телом за возможность остаться в живых. Данила помнил, в каком виде вырвалась она из замка, а потому сразу поверил барыне; зато Глашенька быстрее его поняла, почему госпожа под страхом смерти не желает довериться в этой беде своему мужу. Она и сама боялась барона до судорог, а его полное пренебрежение к молодой и красивой Марии Валерьяновне казалось ей чудовищным и противоестественным. Так что на следующий же день после их задушевного разговора, который очень напоминал разработку стратегической операции (если планирование таковых может прерываться потоками слез), Глашенька в присутствии Николь «упала в обморок». Надо думать, сделала она это достаточно натурально (нагляделась на свою хозяйку!), ибо Николь тотчас бросилась на помощь. Прежде она относилась к Глашеньке довольно неприязненно, однако, услышав ее печальную историю, увидев потоки слез (не стоит забывать, что Глашенька всегда была горазда поплакать!), Николь прониклась сочувствием к бедной горничной, которая смертельно боялась, что хозяйка, узнав о беременности, выгонит ее, и, поразмыслив, согласилась указать бедняжке, где живет вполне приличная повитуха, тайком промышлявшая абортами. Разумеется, Николь заломила за посредничество немалую сумму… Глашеньке пришлось сделать вид, будто она украла у барыни и продала какое-то украшение. Благосклонность Николь после этого простерлась до того, что она собственной персоной решилась проводить Глашеньку до дверей этой самой мамаши Дезорде, и девушке пришлось разыграть страшную сцену отчаяния, страха и нерешительности, чтобы любой ценой избегнуть немедленного осмотра: ее обман тотчас раскрылся бы, и уж тогда ушлой Николь ничего не стоило бы свести концы с концами и догадаться, с кем именно случилась беда!..

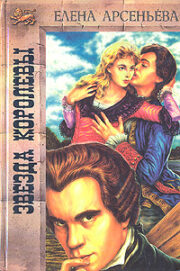
"Звезда королевы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Звезда королевы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Звезда королевы" друзьям в соцсетях.