Тут, ни с того, ни с сего, вспомнилась история, которую услышала она в какой-то немецкой корчме от бродячего сказочника. Был он родом лужичанин [91], а потому все его прибаски были по-славянски таинственными и необъяснимо жуткими. От него-то и узнала Маша о духах Вусмужских и Любицких гор, которые раз в год отворяли свои горные чертоги и впускали туда всякого, кто хотел войти, — однако выйти уже было не столь просто! Лужичанин рассказывал о некой бедной женщине, которая помогла предводителю духов отыскать его заветный, волшебный перстень, и за то позвал он ее в пещеру, едва на Любицкой башне пробьет полночь, посулив золота, сколько сможет унести. На беду, женщина пришла с маленьким сыном…
Духи крепко спали, никакой опасности не было. Посадив мальчика на стол, женщина разостлала передник, насыпала в него золота и набила им карманы. Но тащить мальчика и передник с золотом ей было не под силу, потому она понесла золото из пещеры, решив потом воротиться за сыном. Но едва она вышла, как раздался скрежет, грохот, и женщина, обернувшись, увидала скалу, сомкнувшуюся так плотно, что не было видно ни расщелины, ни даже малой трещинки.
От ужаса бедняжка лишилась чувств. Когда же пришла в себя, то начала кричать и плакать и, бросившись на колени, молила Бога возвратить ей сыночка, но Бог был глух к ее мольбам — скала не открывалась.
Уже и деньги не тешили бедную женщину! Бегала она как потерянная и у всех просила совета, но никто не знал, что делать. И только один мудрый старец присоветовал ей прийти ровно через год опять на Любицкую гору и ждать, когда откроется скала.
Легко себе представить, как долог показался этот год бедной матери! Еще целая неделя оставалась до срока, а она уже стояла у скалы, не спуская с нее глаз. И вот в заветную ночь, только что пробило на Любицкой башне двенадцать часов, как скала открылась — и женщина с радостным криком бросилась внутрь.
О счастье! Сыночек ее сидел на скале и играл с золотыми яблоками.
Схватив ребенка, женщина кинулась бежать и бежала, не переводя дух, пока не добралась до родной деревни, и больше никогда ни она сама, ни сын ее даже близко не подходили к Любицким скалам!
Столь некстати вспомнилась эта страшная сказка, что Маша даже приуныла слегка. А вдруг и ее темница отворяется?.. Ну, не раз в год, а лишь чуть-чуть чаще? Что, если Машу бросили сюда без намерения выпустить, желая уморить лютой смертью? Нет, вряд ли. Тогда гораздо проще было бы убить ее в лесу, но уж никак не везти сюда в карете!
Едва к Маше пришла сия успокоительная мысль, как произошло нечто, и вовсе развеявшее ее сомнение: издалека донеслось металлическое лязганье и грохот — похоже было, словно снимали тяжелые засовы и с трудом отворяли отсыревшую дверь!
Первым побуждением Маши было кинуться туда, к выходу, но она окоротила себя и только перебежала поближе к тесному коридорчику. Слышались медленные шаги… глухое ворчание: пришедший, верно, не обнаружил узницы там, где бросил ее бесчувственное тело, и злобно недоумевал.
— Эй! Ты где?! — послышался вопль, более похожий на звериный рев.
Маша невольно задрожала, но ненависть к этому рыкающему чудовищу, которое так люто покусилось на ее свободу, взяла верх над страхом и вернула ей отвагу.
На черных каменных стенах замелькали слабые отсветы — тюремщик, верно, шел с факелом, и Маша торопливо заслонила лицо рукавом, опасаясь, чтобы яркий свет не ослепил ее и не лишил чудесного «ночного зрения».
Было очень трудно сдержать нетерпение, но все-таки Маша, замерев в углу, выждала миг, когда тюремщик выбрался из склепа в зал, с трудом распрямился и сделал несколько шагов, освещая факелом углы и пытаясь отыскать затаившуюся пленницу. Он тяжело, запаленно дышал, а потому не расслышал, как за его спиной легкая тень метнулась в коридорчик и беззвучно, чуть касаясь ногами пола, понеслась по нему. Приходилось все время помнить об угрожающе низком своде, а потому Маша бежала, пригнувшись, не столь быстро, как хотелось, однако скоро коридорчик кончился, и она очутилась в зале, всем похожим на первый — даже скамья стояла в углу, точь-в-точь как там! — однако вместо львиной морды в стене зияло отверстие.
Дверь! Открытая дверь!
Маша устремилась туда, как стрела, пущенная в мишень. И сердце ее едва не разорвалось от неожиданности и горя, когда чьи-то руки вдруг схватили ее так крепко, что шевельнуться было невозможно, и звонкий молодой голос насмешливо произнес:
— Не так быстро, сударыня! Вы отдавили мне ногу!
Итак, тюремщик пришел не один…
А надо, надо было об этом подумать! Следовало быть осторожнее, но что уж теперь… Она рвалась, кусалась и царапалась, но схвативший ее человек не церемонился: болезненным ударом под ребро заставил согнуться вдвое и закашляться, а когда она наконец смогла разогнуться и перевести дух, уже набежал тюремщик и разразился такой бранью, что Маша поняла: ее французский не очень богат словесно, — но только порадовалась этому.
Тот же, молодой, который поймал Машу, покатывался со смеху, глядя на ее перекошенное от отвращения лицо. Маша метнула на него возмущенный взор и неожиданно — факел в руке тюремщика светил достаточно ярко — узнала его. Это был тот самый парень, который молча слушал рассказ о прусских дисциплинированных разбойниках, а потом помогал освободить от вещей застрявшую карету! И спутника его Маша теперь узнала — это угрюмое, полудикое существо, исполненное животной тупости и звериной злобы.
— Вы следили за мной? Стерегли меня? — выкрикнула она возмущенно.
— Разумеется, — кивнул молодой. — Я узнал бы вашу колымагу среди сотен карет по водруженному на ней множеству всякой поклажи!
Вот как? Узнал бы? Стало быть, эти двое ждали в лесу именно Машину карету? Ну, понятно: когда перегружали вещи в том городишке, нацелились на чужое добро и напали.
Нет. Зачем им тогда хозяйка всех этих сундуков?..
Самой додуматься до ответа Маше не дали. Ответ ей буквально бросили в лицо: черный ткнул в какую-то бумагу и прорычал:
— Пиши!
— Погоди, Жако, — успокоил его напарник. — Надобно объясниться aupres de la dame [92].
Маша взглянула на него повнимательнее. Он был недурен собою, боек, развязен; речь и манеры выдавали человека более или менее воспитанного и образованного в отличие от ужасного Жако — когда тот произносил хоть слово, первым чувством Маши было изумление, что это дикое животное обладает речью. Конечно, ведет в сем дуэте молодой… ну что ж, надобно послушать, что он скажет.
— Сударыня, я весьма сожалею, что приходится беседовать с вами в столь не подходящем для этого месте, но, к несчастью, обстоятельства диктуют нам свою волю, — начал разбойник как по-писаному, и Маша подумала, что перед ней, наверное, какой-то недоучившийся студент или неудачливый стряпчий.
Однако ее весьма заинтересовало словечко «обстоятельства». Интересно, что же это за обстоятельства такие, которые «диктуют свою волю»?.. И она вновь со вниманием принялась слушать.
— Жизнь и свобода ваши всецело в руках ваших, — продолжал разбойник. — Мы подадим вам бумагу и перо, а вы напишете на сей бумаге несколько слов, после чего сделаетесь полностью свободны от всех забот. Поверьте, сердце мое обливается кровью при виде вашей красоты, обрамленной в столь неподобающую рамку. Вашим ножкам ступать бы по сверкающему паркету, вашим кудрям быть украшенным брильянтами…
Он с деланным отчаянием воззрился на растрепанную Машину косу, и Жако вдруг заперхал, заскрипел — очевидно, это должно было означать смех — и выдавил:
— Тебе, Вайян, надо бы зваться Пайярдом [93]!
Маша смотрела на них задумчиво. Словоизлияния Вайяна ее не интересовали, зацепило в его речи другое.
Итак, что-то написав, она будет «полностью свободна от всех забот»? Весьма любопытно, какой смысл вкладывает Вайян в сию фразу?.. Но терпение! Пока важнее другое.
— Что я должна написать? — спросила Маша и порадовалась тому спокойствию, с каким звучал ее голос.
— О, всего несколько слов! — воскликнул Вайян. — Небольшое распоряжение: назовете ваше имя и звание, потом распорядитесь о некоем лице… да что откладывать? — Он сорвал с пояса походную чернильницу, отвинтил крышечку, достал перо, Жако вновь подал бумагу. Эти разбойники сейчас напоминали услужливых секретарей, и Маша поняла, что именно написание этой бумаги было целью ее похищения.
Так они не простые грабители! Их кто-то подослал! И на почтовой они ее уже выслеживали, уже готовились к нападению!
От этой догадки Машу пробрал озноб, но голос звучал по-прежнему твердо:
— Распоряжение о некоем лице? Я не понимаю!
— Да что тут понимать, сударыня? — удивился Вайян. — Вы богаты, а случись что, богатство ваше окажется бесхозным. После же написания бумаги сей, что бы с вами ни приключилось, все ваше состояние окажется в надежных руках… увы, не в моих, — покачал он головою, правильно истолковав издевку, вспыхнувшую в Машиных глазах. — Нет, распоряжение ваше…
— То есть завещание? — уточнила Маша.
Вайян сконфуженно пожал плечами:
— Ежели вы предпочитаете все называть своими именами, то скажем так. Стало быть, оно будет в пользу другого лица. Но point l'humeuc là-dessus [94]! Это вполне достойная особа!
Маша отвернулась. Ей не хотелось, чтобы эти негодяи видели страх на ее лице, а именно страх сейчас охватил все ее существо. Ужас!
Мысли мелькали, мелькали, с поразительной быстротой выстраивая вопросы, на которые не находилось ответов.
— А если я откажусь? — осторожно спросила она.
— Ну, есть множество способов принудить вас, — ответил Вайян.
— Например? — Например, кулаки Жако… мне жаль, поверьте, угрожать даме, но… — Вайян развел руками. — Нам предписано также морить вас голодом до тех пор, пока вы не напишете требуемую бумагу. Кроме того, в этом подземелье есть некий ошейник на цепи… да вот, взгляните, если желаете!

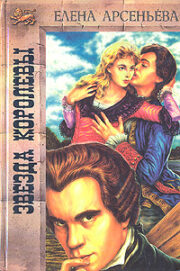
"Звезда королевы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Звезда королевы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Звезда королевы" друзьям в соцсетях.