— Я все знаю, Mary. Я все понял, так что не трудитесь новой ложью усугублять старую.
Он разжал пальцы, и жемчужинка покатилась по подушке, скрылась в складке простыни. «Не могла ты там вчера остаться, что ли?» — подумала Маша с такой ненавистью, словно эта несчастная пуговка была единственной виновницей свершившегося. А барон, разгадав ее мысли, невесело усмехнулся:
— Дело совсем даже не в ней. Это так… мелочь, маленькая деталь общей картины, которая начала вырисовываться передо мной еще две недели назад, когда надменная графиня Строилова, одна из ближайших наперсниц княгини Ламбаль, фаворитка королевы Марии-Антуанетты, двойной агент, равно старающийся и для канцелярии Безбородко, и для Монморена [67], член женской масонской ложи, вдруг на том знаменательном балу бросилась мне на шею и принялась на блюдечке преподносить руку и сердце своей прелестной племянницы. Но она забыла, с кем имеет дело! Возможно, лучше мне было бы оставаться в неведении, но моя работа приучила меня всегда держать ухо востро. Впрочем, красота ваша меня околдовала! Я голову потерял, я подумал, почему не взять то, что в руки идет, ежели моей женою сделается сие воплощение красоты и невинности?
В голосе его не прозвучало ни малейшей иронии, но Маше это великодушие было как нож в сердце.
— Итак, я позволил вашей тетушке всячески ускорить нашу свадьбу… да я и сам желал этого всем сердцем.
Я гнал свои сомнения, однако вчера вечером, по какому-то наитию, я поведал графине Евлалии историю моего первого брака… вы видели, не сомневаюсь, после этого свою тетушку и знаете, что ее чуть удар не хватил. Теперь мне кажется, я все понял еще тогда… или немного позднее, когда вы чуть ли не силком вливали в меня это самое питье! Но Боже мой, Mary, я не гневался на вас даже тогда! Я каждую минуту ждал вашего признания!
«Да ведь я только и желала, чтоб во всем вам открыться!» — хотела крикнуть Маша, но из ее груди вырвался лишь слабый стон, даже не услышанный Корфом.
Он продолжал:
— Я ведь не зря сказал вашей тетушке, что простил бы Ольгу, когда б она созналась мне во всем. Я ждал вашего признания, как манны небесной, мечтая о близости меж нами не только лишь телесной, но и духовной. О, les illusions de l'amour! [68] Вы ушли… а на ваше место явилась эта девка.
Маша привскочила на постели, глядя на него во все глаза: — Так вы узнали сразу?!
— Mary, какое вы дитя! — холодно произнес Димитрий Васильевич. — Неужто вы не знаете, что любимого человека окружает для любящего некий ореол? Я всего лишь раз коснулся ваших губ, но вкус их уже не смог бы спутать ни с какими другими. Ваш запах, ваше дыхание, шелковистость ваших кудрей… — У него перехватило дыхание, и он не тотчас смог продолжать. — Неужто вы думаете, что я смогу спутать свою любимую со случайной шлюхой, которая развязно залезла ко мне в постель и сразу принялась срывать с меня последние одежды?
Нет, не эти постыдные подробности потрясли Машу. Нет, но… ежели он сразу распознал подмену, ежели его так оскорбили заигрывания Николь, что же… почему же… Она вспомнила скрип кровати — и вдруг почти закричала, вне себя от ревности:
— Да коли так, отчего же вы сразу не вышвырнули прочь эту девку, а оставили ее при себе на целых три часа?!
Если Маша надеялась увидеть смущение в его лице, то напрасно. Взор его был по-прежнему бесстрастен.
— В первую минуту я был столь потрясен, уязвлен в самое сердце, что совершенно растерялся. Я никак не мог переварить ту новую nourri ture de mes pensees [69], которой попотчевала меня злая судьба. Но через некоторое время… сознаюсь, через некоторое время J'y suis reste par curiosite [70]! Эта девственница, которая действовала с проворством и навыками первейшей парижской кокотки, и l'ours [71] зимой могла бы поднять из его берлоги!..
А что, сударыня? Вас это уязвляет? Вы предпочли бы видеть меня ничего не ведающим рогоносцем или несчастным, несостоявшимся любовником? Вам не по душе, что я решил извлечь максимум удовольствия из той гнусной ситуации, в которую был вовлечен вашею волей?
— Не мучьте меня! — в отчаянии выкрикнула Маша. — Ради Бога, не мучьте!
— Да… — тихо проговорил Димитрий Васильевич. — Это мне теперь уже все равно, а ведь вчера, когда обман ваш сделался мне явствен и я готов был вскричать со слезами: «Не мучьте меня!..» — Он поднялся с постели и запахнулся в шлафрок.
Сейчас, с растрепавшимися волосами, осунувшийся после бессонной ночи, он казался совсем молодым. Синим, холодным огнем горели глаза его, и сердце Маши защемило от ощущения невосполнимой, безвозвратной потери.
— Объяснимся до конца, сударыня, — сурово произнес барон по-французски; и говорил далее только на этом языке, словно бы враз отгородившись чужой речью от всего того родного тепла, что еще оставалось в его душе к жене… если еще оставалось! — Мне необходимо знать, понадобился ли я вам просто как выгодный супруг или мне уготована более почетная роль?
— Я… не понимаю… — робко подняв на него глаза, проговорила Маша.
Корф цинично усмехнулся в ответ:
— Неужто, мадам?! О, сбросьте вашу маску! Невинность вам пристала, не спорю, но нежные краски ее несколько поблекли, поистерлись нынче ночью! Вы меня не поняли — так я спрошу еще раз: означает ли наш скоропалительный брак то, что вы беременны и мне предстоит дать свое имя вашему ублюдку?
Маша, стоявшая на коленях в постели, покачнулась. Сейчас она впервые от всего сердца пожалела, что нож Григория, приставленный к ее горлу, не соскользнул и не перерезал вену… Право слово, даже утонуть в болоте казалось ей теперь милее, чем то, чем обернулась их с тетушкою «удачная охота» на балу! Говорить она не могла, только едва заметно кивнула, но Корфу этого было вполне достаточно.
— Та-ак… — проговорил он хрипло. — Та-ак…
Какое-то время в комнате царило гробовое молчание. Наконец Корф изрек столь спокойно, кратко и точно, словно несколько часов обдумывал свои слова:
— Положение мое, а прежде всего — интересы дела и, стало быть, отечества не дозволяют мне пойти на скандальный развод. То есть мы принуждены оставаться в супружестве, но ежели не судьба нам стать Филемоном и Бавкидою [72], уж не моя в том вина! Однако, сами не зная того, вы поставили своего ребенка в очень печальное положение: я не смогу признать его.
— Ах! — вскрикнула Маша, как подстреленная, и барон сделал невольное движение поддержать ее, но тут же, словно сам себя устыдившись, спрятал руки за спину.
— Дело не только и не столько в моей жестокости. Увы, Mary, я бездетен, и, к несчастью, в Париже есть люди, которым об этом известно. Так что вы сами понимаете: появление у меня жены с ребенком будет всеми воспринято однозначно. А уж когда люди сопоставят сроки нашей свадьбы и ваших родин, тут уж последнему дураку все ясно сделается. У меня нет ни малейшей охоты делать из русской миссии посмешище для французского двора, а это значит, что вы отправитесь рожать в Любавино — с тем, чтобы явиться ко мне в Париж, чуть только позволит ваше здоровье.
На миг опаляющая радость овладела всем Машиным существом: так он не прогоняет ее от себя вовсе, не ссылает в деревню! Она приедет к нему в Париж, а там… а там, быть может, все еще как-нибудь уладится. Ведь он же говорил, что любил ее, а раз так… Но тут же отрезвление настигло ее, заставив спросить:
— Мне явиться в Париж? А как же дитя?
— Дитя останется в России, — произнес Корф, и Маше почудилось, будто не муж ее стоит здесь, а палач, выносящий смертельный приговор. — Вы будете жить при мне, вы — жена моя, и вы повинны предо мной. Я предпочитаю сразу ставить все точки над i. Вы жена мне, однако, клянусь и призываю в свидетели Бога, никогда барон Корф и баронесса Корф не лягут более вместе в супружескую постель. И в этом вы просчитались, сударыня: я отнюдь не король Марк!
Маша даже не шелохнулась, только горько усмехнулась про себя: «Вот почему там лежала эта книжка… „Тристан и Изольда“!».
Но тут ледяной голос барона дошел до ее сознания:
— А поскольку женатому мужчине не к лицу шляться по девкам, я предпочту оставить при себе ту, которая отдала мне свою нетронутую невинность. Отныне Николь будет жить в нашем доме на положении камеристки хозяйки и метрессы [73] хозяина. Попросту говоря, на балы я буду вывозить вас, а спать в моей постели будет она! Вам все ясно?.. Молчание — знак согласия. Ну что же — честь имею, сударыня!
И Димитрий Васильевич вышел, так хлопнув дверью, что картина, висевшая рядом с косяком, сорвалась и грохнулась об пол. Золоченый багет разлетелся на куски.
Маша, слетев с постели, кинулась было вслед за бароном, да ноги ее подкосились, и она растянулась на ковре. Сознание заволокло туманом, но вовсе не эта ставшая уже привычной слабость не давала подняться, а обессиливающий своей внезапностью приступ ярости!
Она лежала, касаясь щекой острых осколков багета, но не чувствовала боли. Последние слова Корфа своей обдуманной жестокостью потрясли ее до глубины души. Робкая, зарождающаяся любовь, ревность, стыд и раскаяние — все это исчезло, все сгорело в пожаре нового, неодолимого чувства. Ненависть властно овладела всем ее существом, не оставляя места ни для чего другого.
Ненависть!..
Она знала, что будет ненавидеть мужа до конца дней своих.
Глава VIII
В ДАЛЕКИЕ СТРАНСТВИЯ
Маша родила в мае 1780 года. Срок свой она переходила чуть не на полмесяца и была рада этому несказанно! Все равно люди должны были считать дитя недоношенным — предполагалось ведь, что оно зачато в исходе сентября, когда свершилась свадьба с бароном Корфом. Так что чем позже роды, тем лучше.
Их с матушкой поспешный отъезд из Санкт-Петербурга после объяснения с бароном был похож на позорное бегство — или следование в ссылку. Да уж, натерпелись стыда!.. Маша вообще не знала, как бы пережила эти муки, если бы не матушка. Жизнь приучила Елизавету на переживания попусту сердца не тратить: ежели дело поправимое, то надобно все силы употребить, чтоб его поправить; ну а ежели безнадежно, так чего зря надрывать душу? Случившееся же с дочерью, едва остудив дорожным ветром пылающие от стыда щеки и поразмыслив, княгиня перестала полагать делом безнадежным и несчастным. Да, тяжело, да, кажется, невыносимо — только легкие умы уверены, что все легко! — однако это лучший из возможных выходов. Барон-то Димитрий мог не ограничиться теми жестокими словами, которые пришлось выслушать его молодой жене, а потом и Елизавете с графинею Евлалией. Он вправе был и к святейшему Синоду за разрешением на развод обратиться, а уж тут огласки и позору истинного было бы не избежать — Машенькино имя сделалось бы навеки запятнанным… А так, ну что ж, все обошлось и осталось сокрытым в своей семье. И еще счастье, благодарила Бога Елизавета, что возлюбленный муж ее никак в сем предприятии замешан не был! Случись он в России в пору сватовства и всего, что за ним последовало, — не миновать ссоры посерьезнее, а то и дуэли! Все-таки, что ни говори, а против женщин никакого иного, кроме слов, не сыщешь оружия… слова же, хоть и больно ранят, со временем забываются. Вот на это самое, на время, и надеялась пуще всего Елизавета как на лучшее лекарство для воспаленных умов и разбитых сердец.

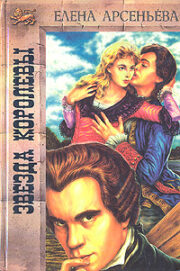
"Звезда королевы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Звезда королевы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Звезда королевы" друзьям в соцсетях.