Несколько раз она приближалась к двери, но остерегалась вслушиваться, чтобы вновь не услыхать все тот же ужасный звук. Хотела молиться, но не было ни в мыслях, ни в сердце никакого желания, кроме одного: чтобы эта пытка закончилась как можно скорее, чтобы она могла воротиться, и лечь рядом с мужем, и встретить утро вместе с ним. Почему-то казалось, что утро все изменит к лучшему, все поставит на свои места!
Но время шло, и Маше, окоченевшей в одной рубашке, отупевшей от беспокойства, стало казаться, что ночь никогда не изойдет, Бранжьена-Николь никогда не воротится, и она даже не поверила своим ушам, своим глазам, когда дверь спальни тихонько приотворилась и белая фигура неслышно скользнула в комнату, шепча:
— Ваше сиятельство! Вы здесь?
— Да, — хрипло проговорила Маша, с трудом поднимаясь — затекло все тело. — Долгонько же… — Она не договорила, почувствовав, что сейчас зарыдает в голос, набросится на Николь, закричит, изобьет ее!..
— Ну, скажу я вам! — возбужденно хихикнула Николь и зажала рот ладошкою — ее разбирал смех. Глаза ее сияли в темноте, коса была распущена, волосы все сбились. — Пробудешь тут долгонько, коли он четырежды… — Она захлебнулась блаженным вздохом. — Mon Dieu, quel homme! Guel mâle!.. Oh, pardon, madame! [64] — спохватилась Николь. — Он сейчас спит. Идите же скорее! Ручаюсь, он ничего не заподозрил. Я опасалась, что его смутит мой голос, однако у нас не было ни минуты, свободной для беседы. — Она снова нервически хихикнула, а Маша, резко отвернувшись, пошла к двери, но была остановлена тихим вскриком Николь:
— Постойте, madame! Вам придется переодеться!
Маша непонимающе взглянула на француженку. Белые зубки Николь посверкивали в хитроватой улыбке:
— Осмелюсь сказать, сударыня, на вашей рубашке отсутствуют необходимые следы, — она деликатно замялась, — следы урона, причиненного девичеству! — И, не дожидаясь, пока спешившая Маша произнесет хоть слово, принялась стаскивать с себя измятую рубаху, обдав Машу потным, мускусным запахом своего разгоряченного тела.
Ну, это уже было невозможно вытерпеть! Со стоном, более напоминавшим рычание, Маша подалась к Николь, да тут же и замерла, схватившись за горло: такой подкатил позыв тошноты, что все силы ее сейчас ушли на то, чтобы осилить этот приступ. В глазах потемнело, а когда Маша вновь обрела способность видеть, полуголая Николь уже исчезла невесть куда.
Ноги сделались от слабости как ватные; еле переводя дыхание, Маша добрела до постели и легла рядом с ровно дышавшим мужем… их с Николь мужем! И тут вдруг вспомнилось, как графиня Евлалия, дама не весьма скромная, рассказывала одну фривольную историю, услышанную ею во Франции. Некий купец влюбился в служанку своей жены и, желая переспать с этой девицею так, чтобы жена не узнала, велел одному из молодых приказчиков на ночь занять его место в постели жены, взяв с него предварительно обещание, что он до хозяйки не дотронется. Тот малый, по молодости своей, не смог удержаться и сделал даже больше того, что обычно делал муж. На следующий день жена, полагая, что это был ее супруг, ибо тот вернулся и лег подле нее незадолго до рассвета, подала ему чашку бульона и пару свежих яиц, хотя и раздражала мужа прежде своею скупостью. Купец удивился необычному завтраку. «О, — воскликнула жена краснея, — вы его вполне заслужили!» Тут-то тайна ему и раскрылась. Впоследствии он обвинил этого молодца в том, что тот его обокрал, и привлек к суду. Приказчик объяснил, почему хозяин его ненавидит и клевещет на него, и суд его оправдал. Жену купца судьи признали порядочной женщиной, а мужа объявили рогоносцем… по своей воле. И Маша подумала, что если слова «носить рога» можно отнести к женщине, то она нынче ночью сама себе рога наставила, и когда б история ее глупости сделалась достоянием гласности, все, ее слышавшие, хохотали бы до упаду! Не до смеху ей, лежавшей на измятых, влажных простынях.
Маша плакала долго, пока слезы вконец не обессилили ее и она незаметно для себя не забылась сном.
Проснулась она как от толчка — и первое же воспоминание о случившемся вызвало к жизни ту же сердечную боль, которая затихла было во сне.
Верно, уже давно рассвело: бледный свет пасмурного сентябрьского утра сочился сквозь щель меж тяжелых портьер.
Маша украдкой повернула голову — Димитрий Васильевич лежал рядом тихо, неподвижно. Длинные светлые ресницы его были сомкнуты, — казалось, он крепко спал. Маша немного приободрилась: у нее было несколько минут на обдумывание того, как вести себя. Вчера вечером (чудилось, год мучений миновал с тех пор!) матушка с тетушкой, от беспокойства утративши стыд, будто две опытные сводни, наставляли ее, едва пробудившись, тотчас же к мужу прильнуть и соблазнить его своею ласкою, дабы забыл он свои ночные впечатления и помнил только утренние. Конечно, Маша понимала, что совет сей весьма разумен, но никак не могла заставить себя последовать ему. Барон пал нынче ночью жертвою ее же интриги, однако она почему-то сердилась на него, как на изменника-прелюбодея.
Да, забавные шуточки шутит с нею нечистая совесть! Маша собралась с духом и, повернувшись, положила ладонь на юношески гладкую грудь мужа, видную в прорези рубахи. Она успела почувствовать трепет его сердца, вмиг передавшийся ее сердцу и заставивший его забиться быстрее, еще быстрее… Но тут Димитрий Васильевич открыл глаза, и Маша вздрогнула: они были ясные, незамутненные сном — и холодные, такие холодные!
— Рад видеть вас, Mary, — сказал он буднично, равнодушно, вызвав этим тоном сонм перепуганных мыслей в бедной Машиной голове: неужто именно так здороваются мужья с женами после первой ночи супружества? Вчера, прежде чем Маша его покинула, он был совсем другой… впрочем, может быть, Бранжьена… тьфу, эта, как ее, Николь, чем-то разочаровала его, оттого он столь холоден… Последняя мысль почему-то обрадовала, ободрила Машу. Коли так, надо к нему непременно приласкаться! И она легонько погладила его грудь, однако Димитрий Васильевич небрежно сбросил ее руку. Повернувшись на бок и приподнявшись на локте, промолвил вдобавок:
— Не трудитесь, сударыня. Ночными ласками я сыт по горло!
Бесстыдная, обнаженная откровенность этих слов поразила Машу, как пощечина. Она медленно опустилась на постель, ничего не видя перед собой. Кровь стучала в ушах, и голос барона доносился как бы издалека:
— Хочу рассказать вам одну сказку, сударыня. Я услышал ее еще в детстве от моей нянюшки. Сказка нехитрая, старая, как мир. Чудовище напало на город, и, чтобы умилостивить его, решено было ежедневно отдавать ему на съедение прекрасную девицу. Когда оно всех переело, дошла очередь и до королевской дочери. Сидела она на камушке, ожидая, когда чудовище явится ее пожрать, да тихонько плакала, как вдруг явился витязь-богатырь и после яростного сражения убил чудовище, а хвост его отрубил на память да спрятал. Утомившись, прилег витязь отдохнуть в холодочке, посулив отвезти спасенную деву домой, да тут, откуда ни возьмись, наскакал какой-то прохожий-проезжий человек, чудище мертвое в море скинул, скрал красавицу и повез ее к королю, по пути застращав: откроешь, мол, истину — и я тебя убью. Девица и промолчала, когда сей нечестивец похвалялся несвершенным подвигом. Король в награду посулил ему дочку свою в жены, однако едва начали играть свадьбу, как явился на пир незнакомец и попросил жениха поведать о своем подвиге. Пройдоха наплел семь верст до небес, слушатели рыдали от восторга, а незнакомец возьми да и спроси: скажи, мол, герой, а каков же хвост был у сего чудища? Тот в памяти порылся да и брякнул: «Не было у него хвоста никакого вовсе, когда я его в море скинул!» — «Конечно, не было! — согласился незваный гость. — Хвост я отрубил давеча, после того, как убил чудовище!» Тут королевна осмелела, во всем созналась. Самозванца повесили или голову ему отрубили, уж и не припомню, а девицу с героем повенчали. И жили они долго и счастливо… но счастье-то по усам текло, а в рот не попало…
При последних словах в голосе барона прозвучала вдруг такая горечь, что Маша решилась повернуть голову и взглянуть на мужа, не в силах сообразить, к чему была ей рассказана сия старинная прибаска [65]. Тот держал на ладони что-то белое, кругленькое и задумчиво смотрел на этот предмет. Приглядевшись, Маша увидела пуговку, сделанную из обточенной речной жемчужины: на такую точно пуговку застегивались рукава ее рубашки. Так и есть, на правом рукаве белеется пустая петелька, а пуговка — вот она, у Димитрия Васильевича.
Ну и что? Почему он глядит на нее таким холодным, презрительным взором, словно это не пуговка, а доказательство преступления?
— Ue le bonheur s'ecoule avec vitesse! [66] — произнес Димитрий Васильевич, и Маша от волнения не вдруг поняла, что же сие означает, а когда поняла, воззрилась на него с изумлением, но тут же Димитрий Васильевич это ее изумление разрешил:
— Вчера, когда вы ушли, Mary… эта пуговка закатилась мне под плечо, и я ее подобрал, намереваясь отдать вам, когда вернетесь. Но вы вернулись, и, взяв вас за руки, я, к изумлению своему, обнаружил, что обе пуговки на месте. Чудеса, верно? Однако взгляните на ваш рукав сейчас — ее там опять нет, как хвоста у того чудовища. Странно, правда?
У Маши похолодели пальцы.
— Странно, странно… — задумчиво повторил барон. — Вот и березка, которую я напоил напитком, что вы мне столь заботливо предлагали вчера ночью, — до сих пор спит мертвым сном…
Следуя за его взглядом, Маша посмотрела в угол, где в кадке поникла тоненькая березка (спальня была украшена множеством живых растений, словно уголок зимнего сада), еще вчера весело зеленевшая, словно за окном царила весна, а не осень. И только тут до Маши дошел смысл его слов!
— Боже мой… Боже мой… — Горло у нее перехватило. Не в силах ничего сказать, она огромными, исполненными ужаса глазами вглядывалась в лицо барона, и, отвечая на все ее невысказанные вопросы, он кивнул:

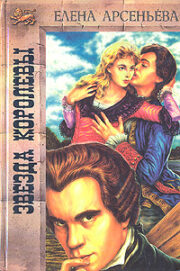
"Звезда королевы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Звезда королевы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Звезда королевы" друзьям в соцсетях.