— Умоляю, — снова произнесла она, не по-русски выговаривая русские слова, — не волнуйтесь. Ваша дочь сейчас очнется. Пока же позвольте представиться. Я — графиня Строилова.
Елизавета рот раскрыла от изумления.
— Не может быть! — воскликнула она и тут же, краснея, извинилась: — Простите, сударыня, мою вольность, но я…
— Быть может, мы знакомы? — прервала дама. — Однако моя ужасная рассеянность… Прошу прощения тысячу раз! Ради Бога, напомните ваше имя…
— Я княгиня Измайлова, — сделала неловкий реверанс Елизавета, — но моя дочь носит титул графини Строиловой.
Насурмленные дуги бровей взлетели еще круче; черные глаза дамы недоверчиво раскрылись.
— Позвольте… — тихо проговорила она — и вдруг резкие, грубые черты ее как бы разошлись, разгладились: — Ах нет, не может быть! Неужели правду говорят, Il n'éapas de bonheur que dans les voies commnes [45]?! Вы — la princesse [46] Елизавета Измайлова? А это несчастное дитя — ваша дочь?
Елизавета захлопала ресницами:
— Да… но каким образом…
— Дорогая Louize! — воскликнула дама, внезапно заключая ее в свои объятия и обдавая запахами духов, пудры и помады. — Ах нет, в это невозможно поверить… Встретиться с вами здесь, случайно?! Ведь я отправилась из Петербурга три дня назад, желая посетить Любавино и повидаться с вами и моею племянницей!
— Племянницей? — переспросила Елизавета. — Так вы…
— Ну конечно! — закивала графиня так энергично, что один цветок выпал из ее прически и упал на плечо Елизаветы. Та безотчетно сняла его — цветок был шелковый. (Вот оно что, а она-то удивлялась — откуда в конце августа такие свежие маки?!) — Конечно! Я — кузина вашего покойного свекра, Петра Строилова, прихожусь вам по мужу — ах, Валериан! Страдалец! — Она на мгновение приложила к глазам кружевной платочек. — Прихожусь вам тетушкою, ну, а этому милому ребенку, — она экстатически воззрилась на Машеньку, которая в этот миг застонала и приоткрыла глаза, — троюродной grand-maman [47]. Хотя, конечно же, было бы гораздо приятнее, если бы и она называла меня просто ma tante [48]. — И графиня, округлив напомаженный рот, добродушно хохотнула: однако тут же и осеклась, с тревогою, невольно тронувшей Елизавету, оборотясь к кровати.
— Матушка, — сквозь слезы проговорила Маша, — я… ох, мне дурно!
Она поперхнулась. Проворная камеристка успела выхватить из-под кровати фарфоровый ночной сосуд и пригнуть к нему голову молодой девушки, прежде чем ее снова обильно вырвало.
Елизавета покачнулась и тяжело опустилась на табурет, очень кстати оказавшийся рядом. Теперь уже нельзя, невозможно было гнать от себя смутные подозрения, промелькнувшие у нее, еще когда они с Машею выскочили из перепачканной кареты. Нет, ах нет, не может быть!..
«Будь проклят Григорий! Вот участь моего ангела!»
Елизавета зажала ладонью рот, чтобы не закричать в голос от ужаса.
Мельком взглянув на ее враз осунувшееся лицо, старая графиня Строилова схватила под локоть Данилу и в мгновение ока вытолкала его за дверь, заботливо прикрыв ее. Потом подошла к Маше, обессиленно откинувшейся на подушки, обменялась быстрым взглядом с хорошенькой субреткою, обтиравшей бледное, покрытое каплями пота лицо девушки. Наконец, взяв Елизавету за руку, мягко и деликатно проговорила по-французски:
— Paudonnez — moi ma franchise [49]… — И почему-то уже по-русски — с грубой прямотою ляпнула: — Наша малютка брюхата, n'est-ce pas [50]?..
Маша подняла свой пышный, страусовый eventail [51] и спряталась за ним. Мягкий запах лавандового одеколона, исходящий от веера, показался вдруг удушливым, нестерпимым. Ее внезапно замутило, и сейчас она выцарапывала из-за края перчатки мятную пастилку. Ну вот, наконец-то. Сохраняя на лице прежнее безмятежное выражение, Маша сунула пастилку в рот, и тотчас же тошнота отступила. Маша несколько раз обмахнулась веером и медленно опустила его. Кажется, никто ничего не заметил, а вон тот высокий полковник, с явным интересом взглянувший на одиноко стоявшую девушку, пожалуй, решил, что она с ним кокетничает, оттого и забавляется с веером. Здесь, в Петербурге, надо было держать ухо востро с такими мелочами! И эта наука была едва ли не сложнее, чем французская грамматика. Веер — ладно, но даже мушки, бывшие в большой моде, оказывается, могли говорить! Большая, наклеенная у правого глаза, называлась «тиран», крошечная на подбородке — «люблю, да не вижу», на щеке — «согласие», под носом — «разлука»… Все это было так сложно! Однажды от бдительного взора тетушки ускользнуло, что мушка, бывшая накануне на правой Машиной щеке, теперь перекочевала по нечаянности на левую, и веселый щеголь, вчера кидавший на юную красавицу робкие, безнадежные взгляды, сегодня осмелел и принялся говорить ей весьма недвусмысленные комплименты. Оказалось, что перенесенная мушка означает поощрение! С того дня тетушка особенно придирчиво проверяла все детали Машиного туалета; а смелый кавалер был холодно отвергнут. А как, интересно, показался бы тетке этот полковник?
Маша перевела дух, почувствовав, что спазм отпустил горло, и несколько раз взмахнула веером, освежая покрытый испариной лоб. Ну вот, к запаху духов вернулась былая приятность!
Какая благодать эти пастилки, истинное спасение для Маши! Хороша бы она была, когда б ее то и дело выворачивало наизнанку! Уж, наверное, ледяные глаза полковника не смягчились бы так при взгляде на стройную девицу в изумрудно-зеленом пышном платье с кружевами цвета старой слоновой кости! Маше даже неуютно сделалось под его пристальным взором. Куда это запропастилась тетушка? Она бы сразу дала знать Маше, стоит ли глядеть на того господина благосклонно — или же следует выказать ему ледяное равнодушие. С виду он очень богат… правда, старше лет на 15, но тетушка велела ей вбить в голову перво-наперво, что возраст жениха никакого значения не имеет… ибо на этих балах Маша не просто веселилась — ей срочно искали жениха.
Вообще говоря, дело было вполне обычное: при элегантном и любившем роскошь екатерининском дворе многие весьма успешно для своих взрослых дочерей ловили женихов… но не так, не так виделось все это в мечтах!
Канули в прошлое матушкины намерения развлечь дочь — чтобы стерлась в ее памяти отвратительная сцена в охотничьей избушке! Теперь она не вспоминала о браке по любви для своей дочери. Любовь! Любовь — это не для Машеньки Строиловой. Честь бы ее спасти! Однако стоило тетушке заикнуться о каких-то средствах, снадобьях, как Елизавета встала на защиту нерожденного дитяти с яростью тигрицы. Прежде всего она защищала жизнь дочери, ибо не могла забыть, как одна за другой умирали в Любавине девки, пытавшиеся вытравить плод. И Маша помнила об этом; и панический страх перед болью, кровью, смертью оказался сильнее соображений благопристойности.
Тетушка принуждена была согласиться.
— Ну что ж! — изрекла она, оценивающим взором оглядев Машеньку. — Elle est souple… elle est bien attray — ante [52]!.. Можно подумать, что она наилучшим образом воспитана во Франции. — В устах графини Евлалии это была наивысшая похвала! — Счастье от нее не уйдет! — И она так властно стиснула кулак, будто это самое счастье находилось у нее на службе и трепетало ее подобно горничной девушке Николь (она была француженка) и прочей челяди.
Елизавета и Маша теперь всецело зависели от расположенности к ним старой графини Строиловой. Начать с того, что поселились провинциалки у нее в премилом особняке близ Адмиралтейской площади. Там было гостям вполне удобно, ежели не обращать внимания на две причуды обихода графини Евлалии: в зимнем саду содержалось столько разных птиц — попугаев, скворцов, канареек, — что за криком их невозможно было иногда слышать друг друга; и даже если двери сада были все время закрыты, птичьи голоса все же разносились по дому, который вдобавок весь пропах «амбровыми яблоками»: графиня испытывала панический страх перед чумою, а эти «яблоки» считались наилучшим средством от эпидемических болезней.
В остальном же все было замечательно: дом обставлен на французский манер, ибо тетушка полжизни провела во Франции, была принята там в самом высшем обществе, о королеве Марии-Антуанетте отзывалась запросто! Да и в России графиня была везде принята и у себя всех принимала, нисколько не сомневаясь, что рано или поздно сделает удачную партию для племянницы, попавшей в беду. Нет, слова «рано или поздно» здесь не годилось. Рано, только рано! Счет шел даже не на дни, а на часы, ибо Машиной беременности исполнился уже месяц.
Нет слов, очи знатных женихов на нее были обращены благосклонно, — но, как заставить одного из них сделать предложение немедля? И сыграть свадьбу не позднее октября? И где найти такого идиота, слепого и глухого — ведь его жена родит гораздо раньше срока! Порою эта задача казалась Елизавете и Машеньке невыполнимой, однако графиня не теряла надежды.
Елизавета, которая не привыкла ни от кого зависеть и не признавала ситуаций безвыходных, уже нашла решение на самый крайний случай — ежели замысел графини Евлалии все же рухнет. Тогда она увезет дочь за границу, а воротясь, объявит родившегося ребенка своим — то есть братом или сестрою Маши и Алеши. Иногда, после особенно тяжелого дня на балу (светское, притворное веселье, когда на душе кошки скребут, еще более причиняло ей скорби, чем гореванье в одиночку), этот выход казался ей наилучшим, но она слишком много перестрадала в свое время, слишком много перечувствовала, чтобы не понимать, каким горем может обернуться для Маши невозможность признать впоследствии свое дитя. Это сейчас оно кажется ей нанавистным и нежеланным, а настанет время… Елизавета на собственном опыте убедилась, что такое время — самозабвенной любви к своему дитяти — для всякой женщины непременно настанет, потому и не хотела лишать дочь такого счастья и, вставая с восхождением солнца, долго молилась перед образами за удачу наступившего дня.

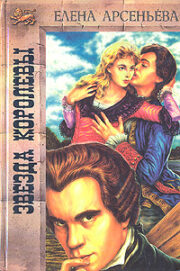
"Звезда королевы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Звезда королевы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Звезда королевы" друзьям в соцсетях.