Шли годы, и многое забывалось. Все реже терзала княгиню Елизавету тоска по погибшим Вайде и Татьяне, однако по-прежнему томило недоумение: что же все-таки произошло той ночью, когда был схвачен старый князь, когда чуть не погиб Алешка? Кто в сем повинен? Нет, Елизавета и помыслить не могла, чтобы Татьяна решилась причинить вред ее сыну, но все чаще мучило подозрение: а не повинна ли цыганка в пленении старого князя? Не она ли выдала его Аристову? Уж больно странно держалась Татьяна в тот вечер, странные слова говорила, а при разговоре о мести, как теперь вспоминали Елизавета и Маша, и вовсе сама не своя сделалась… А ведь ей было, ох, было за что гневаться на Михайлу Иваныча, за что мстить ему, — вдруг да не удержалась? И святые, говорят, искушаются — Татьяна же отнюдь не была святой! Имя цыганки обрастало с течением лет новыми и новыми слухами — все более страшными, даже жуткими. Елизавета только удивлялась, откуда они берутся, хотя знала, что крестьяне да дворня горазды посудачить о всякой небывальщине. Даже ее дети порою слушали эти байки, уши развесив, — что же говорить тогда о всяких Наташках, Агафьях, Агапках с Лукьяшками, да и о том же Гриньке?..
А Гринька, к слову сказать, так и прижился у Измайловых, превратившись из приемыша гулящей бабы Акульки в приемыша княжеского. Алексей и Елизавета, обуреваемые благодарностью за спасение сына, находили, что и самое щедрое воздаяние будет малой ценою за такое благодеяние; а поскольку Алеша нипочем не желал расстаться со своим новым другом и названым братаном [33], то и было решено: взять Гриньку с собой в Любавино и растить его вместе со своими детьми, как родного. Так и случилось, так и повелось, и все скоро привыкли, что вместе с баричами воспитывается приемыш.
А что? Люди и не к такому привыкают!
Гринька стоял по возрасту как раз между Машей и Алешкою: на год младше одной и на год старше другого. Однако человек, не знающий таких подробностей, не усомнился бы, что в этой троице именно он — старший, поскольку был коновод и заводила. Нет, нельзя сказать, чтобы он подбивал княжичей на ненужные шалости. Сам озорничать любил, что верно, то верно, но буйного, азартного Алешку всегда от крайностей остерегал, Машу же оберегал как зеницу ока — и тогда, в порыве этой заботы, и впрямь казался старше своих лет.
Дети были неразлучны как в забавах, так и в обязанностях своих: учились вместе у гофмейстера и мадам, наемных воспитателей-иностранцев, на всех уроках сидели рядом. Хотя учение в то время состояло в том, чтобы уметь кое-как читать да кое-как писать, и много было весьма знатных барынь, которые едва, с грехом пополам, могли подписать свое имя каракулями (да разве кавалеры их опережали в грамотности? По слухам, приходившим из столиц, изо всей придворной знати только двое — Потемкин и Безбородко — писали по-русски правильно; что же спрашивать с людей не столь высокопоставленных?!), — так вот, несмотря на все это, княгиня Елизавета за качеством знаний детей своих, а стало быть и Гриньки, следила: история, литература — классическая и новая российская, а также английская и французская; языки — латынь, греческий, итальянский, французский, английский…
Маше полагалась еще и отдельная, особенная муштра, ибо Елизавета всецело согласно была с мнением императрицы, что «Доброй походке и наружности ничем лучше не выучиться, как танцеванием».
Машеньке исполнилось шестнадцать: по меркам того времени, она созрела для замужества. Охотники со всей губернии — охотники за красотой и приданым графини Марии Валерьяновны Строиловой — непрестанно ей делали засады, однако сия юная девица с разбором глядела на мужчин, хотя и была приучена вести себя приветливо с каждым порядочным человеком — в особенности равным себе по положению.
Правда, Машеньке порою недоставало обходительности, когда за столом или на балу какой-нибуль расфранченный чудак принимался сладко (или, наоборот, косноязычно — результат всегда был один) изъясняться ей в чувствах. Поэтому красавицу графиню считали недотрогою. Маша же на всех знакомых ей молодых людей глядела как на детей малых и неразумных, как на маменькиных сынков! Плоть от плоти, кровь от крови своей пылкой и неустрашимой матери, Машенька могла полюбить только человека, ее превосходящего. Она не думала ни об особенной красоте, ни о богатстве, ни о положении в обществе этого неизвестного. Только бы он был герой!
Таковым в ее окружении оказался только один человек. Тот самый приемыш Гринька.
Надобно сказать, что никто уже не звал его этим пренебрежительным детским прозвищем. Теперь он был Григорием и вполне этому дерзкому и бесшабашному имени соответствовал. Невозможно было признать заморыша, коего когда-то втолкнул старый Никитич в гостиную ново-измайловского дома, в этом высоком, еще худощавом, но уже с развернувшимися, широкими плечами юноше, быстроногом и проворном как в движениях, так и в мыслях.
Просто удивительно, до чего он был востер. И хотя в науках гуманитарных Алешка далеко опережал его живостью своего воображения, однако же в дисциплинах точных, где требовались расчет, сметливость и быстрота соображения, Григорию не было равных.
Изменилось и лицо его. Зеленые глаза стали настолько ярки и хороши, что прежде всего именно они обращали на себя внимание; и в свете этих глаз меркла та недобрая хитроватость черт, которая шла от прежней забитости и недоверчивости, — или почти меркла. Она проявлялась лишь порою, в минуты озабоченности… скажем, когда Григорий задумывался о том, что, при всей любви к нему князя, княгини и их детей, он всего лишь приемыш, то есть никто, человек без роду, без племени, без состояния, всецело зависящий от милости своих покровителей… Впрочем, отношение к нему было самое лучшее, но все же неопределенность его положения не могла не заботить Григория, и он в лепешку разбивался, чтобы стать в этом доме человеком нужным и даже незаменимым.
Любавино в твердой руке князя Алексея сделалось как бы маленьким государством, подобно тем средневековым владениям, кои вполне обходились своим натуральным хозяйством. Понятно, что в доме были свои мастеровые всякого рода: столяры, кузнецы, каретники; и столовое белье ткали дома; были и ткачи для полотна, шелкопряды и шерстобиты; были свои кондитеры — и так далее, и тому подобное. А стены господских покоев украшали полотна доморощенных художников.
Имелся в деревне и кирпичный заводик, приносивший немалый доход. Причуды же погоды мало влияли на заботливо возделываемые, ухоженные поля и огороды — как барские, так и крестьянские. А каковы были сады в Любавине! Яблоки, груши, вишни, сливы, орехи самых разных сортов… Словом, в Любавине был немалый простор для приложения рук, и Григорий, в своей ретивой благодарности и в стремлении к надежному будущему, всякого дела попробовал. Да вот беда: при всем своем усердии успеха не достиг ни в чем.
Как и многих юношей его лет, больше всего привлекали Григория кони. Князь Алексей живо интересовался коневодством, мечтал вывести русских рысаков, не уступающих арабским и аглицким, а потому, в преддверии осуществления такой идеи, держал небольшой, но ценный конезаводик. Григорий был в седле отважен и неутомим, но почему-то всякий скакун норовил его сбросить и чаще всего своего добивался. При его появлении в конюшне глаза у лошадей наливались кровью, с губ слетала пена, как после изнурительной гонки, или будто в стойло забежала ласка, или почуяли немытика [34]. Ну а если Григорий присутствовал при случке, то у самого ярого жеребца и самой соблазнительной кобылки враз остывал взаимный пыл. Конюхи — люди приметливые и суеверные — вскоре перестали даже близко подпускать Григория к лошадям. Князь Алексей, по наущению сына, пытался за его друга заступиться, да вскоре и сам понял, что зряшное это дело, и посоветовал Григорию заняться чем-нибудь другим.
Увы! Ни в чем, начиная от гончарного ремесла и кончая полеводством, он не преуспел, да и то — за грубые эти и подобные им ремесла хватался больше от отчаяния и неудачи во всем остальном. Всякое дело любви к себе требует, руки умелые бывают только у любящих труд, ну а Григорий оказался человеком сугубо практическим: во всяком ремесле он видел прежде всего неприятные стороны — пыль, грязь, шум, боль в спине, мозоли на руках — и пытался эти беды искоренить и труд облегчить, дела вовсе не зная; а потому еще более усугублял сии неудобства и лишь вредил самому делу.
Пожалуй, единственным, что безусловно задалось у Григория, была охота, и она стяжала ему истинную славу, причем не столько среди крестьян, для коих она — всего лишь промысел, то есть не удовольствие, а та же работа, сколько среди помещиков, которые в лес съезжаются, дабы позабавиться и удаль свою показать. И вскоре пронесся окрест слух, что у князя Измайлова появился новый егерь — истинное чудо! Мало того, что Григорий стрелял с небывалой, почти чрезъестественной меткостью, — он словно бы чуял зверя, птицу ли за версту: силки, им поставленные, никогда не оставались пустыми; солонцы, где сутками напролет томились охотники, напрасно дожидаясь добычи, исправно посещались оленями, если в засидке поджидал их Григорий; ну а коли он брался загонять дичь, можно было не сомневаться, что с полем [35] воротится домой всякий ловчий.
К сему надобно добавить, что Григорий обладал таким чутьем, что не смог бы заплутаться в лесу, даже если бы старался изо всех сил; по болотинам, мшавам и даже чарусам [36] он проходил аки посуху — словно бы кто-то незримый стелил ему под ноги незримую же гать! А если еще сказать, что Григорий не только лягушками и ужами не брезговал — мало того, что в руки их брал — ужаков и вокруг шеи обматывал! — но и ядовитые гады пред ним цепенели, вели себя вполне дружелюбно: ползали вокруг, но не нападали, он даже приручил малого змееныша, — если учесть еще и это, понятно становится, почему в деревне перешептывались: мол, не иначе с матерью Гринькиной леший как-то раз побаловался, а не то — сам Гринька его покровительством и помощью пользуется черт знает за какие услуги!

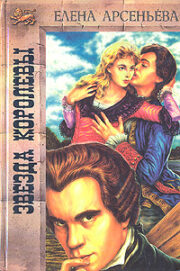
"Звезда королевы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Звезда королевы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Звезда королевы" друзьям в соцсетях.