18 июня 1912 г.
…итак, я продолжаю. Сегодня дождь льет как из ведра – типичный английский дождь. Все остались в своих комнатах – спят, читают, пишут письма. Фредди делает записи в своем дневнике, а я дописываю это письмо.
Путешествие творит с Фредди чудеса. Вчера вечером он развлек нас – нет, правильнее будет сказать «очаровал» – своей игрой. Он нисколько не смущался, как это часто бывало с ним дома, и даже произнес маленькую речь: объяснил, что исполнит этюд Эдварда Макдауэлла,[28] который учился у Сезара Франка[29] и т. д. Затем по просьбе одного из гостей он играл Шопена – самая подходящая музыка для летнего вечера в деревне. Я ни разу не слышал, чтобы он играл так блистательно. По-моему, он действительно мог бы стать великим пианистом, и я не понимаю, почему он не хочет посвятить себя музыке. Все замерли, слушая его игру. Они все, старшие особенно, относятся к нему с симпатией; им по душе его скромность, ну и, конечно, его восторженное отношение к Англии. Я рад, что вы отпустили его в эту поездку.
В понедельник я вернусь в Лондон, где мне предстоит несколько деловых встреч, а через несколько дней Фредди присоединится ко мне, и мы отбудем в Париж.
С наилучшими пожеланиями.
Пол.
22 июня 1912 г.
Страницы моего путевого дневника понемногу начинают заполняться, что порадовало бы бабушку Анжелику, которая мне этот дневник подарила. Он чем-то похож на нее – красивый, в дорогом переплете, сверху золотыми буквами написано «Фредерик Рот».
Я оказался в глухой английской провинции. Дом построен в елизаветинском стиле, говорят, в нем останавливался Кромвель. Дверная притолока в моей комнате такая низкая, что при входе я каждый раз стукаюсь об нее головой. Стены дома увиты плющом, в котором гнездятся воробьи. Плющ толстый и старый, должно быть, ему лет сто. Недавно я стоял у окна и смотрел на блестящие капли росы, на лошадь с телегой, медленно поднимавшуюся на холм, и словно видел один из пейзажей Констебля.[30] Наверное, с того времени ничего здесь не изменилось, только появились телеграфные столбы, которые я стараюсь не замечать. Мне кажется, я мог бы остаться здесь навсегда.
Джеральд показал мне окрестности – мы совершали пешие прогулки, ездили верхом и на велосипеде. Он чудесный товарищ. Я в жизни не встречал такого человека, и у меня чувство, будто я знаком с ним давным-давно. Он мой ровесник, но насколько же он образованнее. Он специализируется по истории в Кембридже. У него широкий круг интересов, он прекрасно разбирается в цветах и животных, играет в крикет и ездит верхом. Свою первую лошадку-пони он получил в подарок в трехлетнем возрасте. Больше всего меня привлекают в нем его простота и скромность. Именно эти качества и делают человека настоящим джентльменом.
26 июня 1912 г.
Почти неделю я не делал в дневнике никаких записей, о чем очень сожалею, потому что мне хочется описать все свои впечатления, пока они свежи в памяти.
Мне нравится доброта и манеры местных жителей. В Нью-Йорке не встретишь ничего подобного, по крайней мере в том районе, где я живу. Работники фермы подносят руку к шапке, увидев джентльмена на лошади, и он отвечает им тем же. Я несколько раз наблюдал, как дамы, ехавшие в экипаже, выходили из него, когда дорога шла в гору, жалея лошадей. Это мне тоже нравится.
Катаясь верхом, мы часто проезжаем мимо огромного поместья какого-то лорда. Самого дома, который, по словам Джеральда, находится в миле от ворот и в котором четыреста комнат, не видно. Вдобавок лорд владеет пятьюдесятью тысячами акров земли в Шотландии и зимним дворцом на юге Франции. С дороги нам были видны лишь тисы, растущие вокруг домика привратника, да декоративные кусты, подстриженные в виде зубчатых башен старинного замка.
На днях, когда мы любовались кустами, к воротам подъехал громадный мужчина на такой же громадной лошади. Со своей длинной седой бородой, лысым черепом и обветренным лицом он был похож на фермера из романа Томаса Гарди, но оказалось, что это брат владельца усадьбы.
Он поприветствовал Джеральда, расспросил его о семье и уж потом свернул на великолепную подъездную аллею, ведущую к дому. Я убежден, что будь на нем шляпа, он бы ее приподнял, прощаясь с нами. Возможно, это ребячество – я знаю, что Пол именно так и считает – но на меня огромное впечатление произвела благородная простота этого человека. Как говорят, положение обязывает.
30 июня 1912 г.
Я засиделся допоздна, перебирая в уме события дня. У меня вдруг возникло желание написать стихотворение и я попытался, но ничего не получилось. А вот у Джеральда есть талант. Он читал мне кое-что из своих поэтических опытов, совсем недурно, доходит до сердца. Он кроме того хороший декламатор и прочел мне много прекрасных стихов самых разных поэтов, которых я не знал. Одно стихотворение – смелое и немного печальное стихотворение о солдатах, написанное А.Э.Хаусманом[31] – нашло особый отклик в моей душе. Я даже решил записать его.
Трубы трубят и литавры гремят
Красные мундиры идут за рядом ряд.
На солдатских лицах веселые улыбки
Словно и не слышат жалобы волынки.
Ни один не вспомнит невесту иль жену.
Бабы надоели, двинем на войну.
1 июля 1912 г.
У Джеральда есть девушка. Он показал мне ее фотографию. Она не такая красивая, как Лия. Джеральд многое рассказал мне о Дафне. Он говорит, что у них настоящая одухотворенная любовь, совсем не то, что было у него раньше с другими девушками.
Я вполне могу понять, почему девушки влюбляются в Джеральда. Он такой мужественный и благородный. Вчера ночью мне приснился сон, страшно меня расстроивший.
Мне снилось, что я влюблен в Джеральда и что он девушка, но потом он снова стал самим собой. Мне стыдно писать о том, что мы делали во сне. Сны бывают такими запутанными и странными.
Мне и про Лию снятся странные сны: она заигрывает со мной – как в тот раз у пруда у дяди Альфи – и мне хочется ответить ей, хочется что-то почувствовать, ведь она такая хорошенькая, но я ничего не чувствую.
2 июля 1912 г.
Пол называет Меня англофилом, не могу понять, говорит он это с одобрением или нет. Мне кажется, он считает меня наивным дурачком, сосунком, у которого молоко на губах не обсохло. Ну и пусть. Я все равно восхищаюсь им и бесконечно ему благодарен.
Жаль, что я не могу поговорить с Полом о своих чувствах к Лии и к Джеральду. Не знаю почему, мы ведь всегда были близки с ним. Может, потому, что он никогда не делится со мной своими переживаниями, ничего не рассказывает о своих отношениях с Мими, хотя они наверняка скоро поженятся. Казалось бы, ему должно хотеться поговорить о ней. Но он такой сдержанный, такой скрытный. Думаю, и я такой же.
3 июля 1912 г.
Вчера вечером мы видели сову. Я в жизни не видел ни одной совы, даже не слышал, как они кричат. После ужина мы вышли на лужайку и вдруг услышали ее уханье, а потом увидели и ее саму: она сидела на ветке футах в двадцати от нас, уставившись на нас своими желто-зелеными глазами.
Вскоре похолодало и мы вернулись в дом, и меня опять попросили сыграть. Я сыграл «Маленькую ночную серенаду» Моцарта. Мне кажется, что люди такого склада предпочитают простоту Моцарта любым бравурным виртуозным пассажам. Моцарт такой утонченный, такой чистый, его произведения – это сама квинтэссенция музыки. Я помню, мой отец сказал однажды, что Моцарт прост как сама правда и еще что-то о сближении науки и искусства. Красиво сказано…
Я знаю, что отец во мне разочарован. Именно поэтому мне так тяжело, чтобы не сказать невозможно, играть в его присутствии. При нем в голову мне лезут неприятные мысли, ненужные воспоминания… не всегда, конечно, но часто. Он надеялся – сейчас, наверное, расстался с этой надеждой – что я стану тем, кем не смог стать он сам; что я буду садиться за рояль в огромных концертных залах, играть, покоряя сердца слушателей, а потом отвешивать элегантные поклоны. Какая чепуха! Да, я талантлив, но не настолько. И это тяжелее, чем быть простым бездарем.
4 июля 1912 г.
Завтра последний день моего пребывания здесь. После этого я присоединюсь к Полу в Лондоне, потом мы поедем в Париж. Мне хочется в Париж, но в то же время грустно уезжать отсюда.
Вчера мы ездили в Гластонбери, Джеральд, я и двое его друзей по Кембриджу. Я смотрел на Авалонскую долину, бывшую когда-то морем, где, по преданию, находился остров Авалон, на который перед смертью отвезли короля Артура, и чувствовал, что по спине у меня ползут мурашки. Гластонберийское аббатство превратилось в руины; уцелела одна башенная арка, а на месте других башен остались лишь груды камней, поросшие травой. Говорят, здесь похоронены Артур и Гиневра. Мы стояли, вслушиваясь в тишину, нарушаемую лишь шумом ветра. Все вокруг внушало благоговение, все было исполнено достоинства и очарования.
Можно подумать, что у меня в роду были англичане, такими знакомыми кажутся мне старинные деревушки, окруженные мирными полями. За них будешь сражаться до последнего, если возникнет такая необходимость.
Всю вторую половину дня мы с Джеральдом провели за разговором; о чем только мы ни говорили – о Дафне, Йеле, Кембридже, моем доме, его доме. Мне трудно было объяснить, какие у меня родители. Я чувствовал, что по моему описанию они ему не понравились, и он сразу понял, что и они его не одобрили бы. Что ж, он прав. Слишком уж он консервативен, сказали бы они. Я словно наяву слышу их голоса, произносящие это слово. Отец бы усмехнулся презрительно и добавил, что Джеральд больно уж изнеженный. Он и меня таким считает, я знаю. Да, все здесь вызвало бы у отца возмущение, особенно слуги.
Я спросил у Джеральда совета относительно своей будущей специализации: средние века или античность. Я уже решил, что буду заниматься историей. По мнению Джеральда, сейчас рано об этом говорить, надо попробовать силы в том и в другом, а уж потом решать.

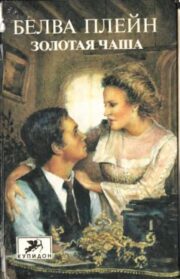
"Золотая чаша" отзывы
Отзывы читателей о книге "Золотая чаша". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Золотая чаша" друзьям в соцсетях.