«Интересно, – думала Жюли, – Эрбер так никогда и не умел говорить с секретарём, да и с любым подчинённым, естественным тоном. Эспиванам власть, как и титул, ещё немного в новинку. При Сен-Симоне они обживались, а Вьель-Кастель их высмеивает… И вот Эрбер ломается, чтобы произвести впечатление на своего секретаря…»
Она ахнула и сорвалась с места: едва за Кустексом закрылась дверь, Эспиван, закрыв глаза, откинулся навзничь. Жюли нашла флакон, открыла, смочила эфиром салфетку и поднесла к ноздрям Эспивана так быстро, что приступ не продлился и минуты.
– Никого не зови. Это ничего, – внятно выговорил Эрбер. – Я начинаю привыкать. Кофе остался? Дай. Ты была так расторопна, что я не успел потерять сознание. Спасибо.
Он уселся без поддержки, перевёл дыхание; всё его позеленевшее лицо улыбалось.
– Знаешь, как интересно – каждый раз такое ощущение довольства, оптимизма, сопровождающее… как бы это сказать?.. мою малую смерть. Хочешь коньяку, Юлька? У меня тут есть… времён Пипина Короткого.
Она, всё ещё запыхавшаяся, удручённая, не могла отвести взгляда от бледного лица с запавшими глазами.
– Нет, спасибо. Я вчера пила.
– Да? С кем? Где? Хорошо было? Расскажи!
Он наклонил голову, щёки порозовели – Жюли узнала знакомый тон, прячущийся взгляд, безрассудную погоню за новыми ощущениями, и снова разозлилась на Эрбера.
– Да нет же! Выпила немножко виски с Леоном из чисто гигиенических соображений. Ты собираешься со мной поговорить или хочешь отдохнуть? Я могу прийти в другой раз…
– Да, но я могу и не дождаться… другого раза. Побудь ещё! Даже если тебе надоело. Тебе так быстро всё надоедает…
В его улыбке не было доброты, но он удерживал её рукой. «Мы слишком хорошо друг друга знаем, – думала Жюли. – Мы ещё можем играть друг с другом скверные шутки, но больше уже не обманемся друг в друге». Она тряхнула головой в знак несогласия, устроилась напротив Эспивана, облокотившись на столик, и налила сливок во вторую чашку кофе. Юношеский голос что-то крикнул во дворе.
– Это Тони, – объяснил Эспиван. Жюли потупилась, скрывая улыбку: «Думаешь, я без тебя не знаю, что это Тони…»
– Так вот, малыш, – начал Эрбер, – мы говорили о том, что я скоро умру. Поскольку ты не можешь постоянно быть здесь, чтобы молниеносно отгонять то, что меня настигает… О, я помню, как-то раз ты кипятила молоко на плитке, телефон звонил, молоко закипало, и ты разом разделалась и с тем и с другим – локтём выключила газ, не выпустив ни кастрюльку, ни трубку, ты была великолепна. Мы жили бедно…
Она подумала про себя: «Я и теперь живу бедно», – и спрятала ноги под стул. Но, поскольку Эспиван был уже не так бледен, оживился и выглядел бодрее, она почувствовала смутное удовлетворение, гордясь облегчением, которым он был обязан ей.
– Кстати, как поживает Беккер?
– Хорошо. Он в Амстердаме.
– Всё ещё выплачивает тебе пенсион? Сколько?
Жюли покраснела и не ответила. Она поколебалась между ложью и правдой и выбрала правду.
– Четыре тысячи в месяц.
– Не сказал бы, что это королевская щедрость.
– С чего бы ему вести себя по-королевски? Он всего лишь барон, да и то если не слишком приглядываться.
– Включая квартирную плату?
– Включая.
– Без вычетов?
– Без.
Эспиван окинул её взглядом, который она про себя называла «в щёлку», – сжатым в ресницах, острым и намётанным. Она знала, что внимание его наконец сосредоточилось на её немного выцветшем черном жакете, на ослепительно белой, но стираной-перестиранной блузке. Взгляд остановился на её ногах. «Ну вот. Увидел мои туфли». Она вздохнула с облегчением, доела последние вишни и не спеша принялась пудриться: сумочка была почти новая.
– И ничего мне не говорила, – сухо упрекнул Эспиван.
– Это не в моих правилах, – парировала она тем же тоном.
Его голос стал ещё жёстче:
– Правда, твой образ жизни меня не касается.
– Совершенно не касается.
Она взглянула исподлобья, приготовившись сама не зная к какому выпаду; но Эспиван сохранял спокойствие. «Он не меня щадит – себя», – подумала Жюли.
– Балбеска, – сказал он ласково, – поговорим толком. Вот уже три раза, не в обиду тебе будь сказано, я объявляю о своей близкой кончине. Но ты тут же переводишь разговор на мебель и обивку, потому что эта бесполая комната тебе, видите ли, не нравится. Дай сигарету. Я сказал, дай сигарету. Ты не поняла, что я здесь «нечаянно» ночую по крайней мере трижды в неделю… «Нет-нет, дорогая, ничего не меняйте в этой дурацкой комнате, вы же прекрасно знаете, что мне не нужно никакой спальни, кроме вашей… нашей… Но сегодня мне нужно допоздна работать, сегодня я такой противный, такой усталый…»
Он изображал Эспивана, говорящего со своей второй женой, и Жюли не могла не отдать должного этой томности, этой любовной властности. «В предательстве он бесподобен!»
– Ты говоришь жене «вы»?
– Не всегда. Она любит контрасты. Ну и, сама понимаешь, моя система позволяет пресекать манёвр.
– Пресекать манёвр… – задумчиво повторила Жюли.
– Ну да, – нетерпеливо проворчал Эрбер, – тебе что, перевести?
– О, нет! Просто я так не говорю. Продолжай. Я, однако, не думала, что Марианна настолько… Правда, ей тридцать пять. Как раз тот возраст, когда женщина не знает, что надо хотя бы через раз говорить «нет» мужчине лет… примерно нашего возраста. Вот почему порядочная женщина превращает пятидесятилетнего мужчину в развалину куда скорее, чем престарелая фея, научившаяся беречь то, что имеет.
– Ну, мне-то ещё не пятьдесят!
– Знаю, без пяти Месяцев. Это было обобщение. Её взгляд, почти всей своей мягкостью обязанный синей туши, остановился на Эспиване. «Может быть, ему никогда не исполнится пятьдесят…»
– Короче, – сказала она, – у тебя жена, с которой шутки плохи. Продолжай.
Он глубокомысленно погасил недокуренную сигарету.
– Продолжать? Больше мне сказать нечего. Ты сама только что всё сказала обо мне… и о моей жене.
– Дорогое это удовольствие – богатая жена.
– И красивая. О. я признаю, что был идиотом. Я старался выйти из положения… Всякие хитрости… Пилюли…
– Как граф де Морни?
– Как граф де Морни. Не могли мы унаследовать ничего хорошего от дворянства второй Империи!
– Мы? Кто это – «мы»? – развеселившись, поддела Жюли. – С тех пор, как «мы» больше не означает «Эрбер и Жюли», не думаю, чтобы оно валило в одну кучу Эспиванов и Карнейянов.
Она с величайшим тщанием скрывала гордость своим именем, его обветшалой древностью, приземистыми останками замка-фермы, который вот уже девятьсот лет звался не иначе как Карнейян, равно как и его владельцы.
– Не хули вторую Империю. Эрбер! Свой следующий будуар я отделаю в стиле графини де Теба. А если серьёзно, Эрбер, почему ты не уходишь? Довольно ты насмотрелся на этот мавзолей. Уходи отсюда. Забери свою пунцовую пижаму… и свой капитал.
– Ах да, мой капитал…
Он мечтательно уставился в потолок, затянутый китайкой, словно перед решительным шагом.
– А были разговоры об этом «капитале», вложенном в мою избирательную кампанию? Сколько называли? Пять миллионов? Четыре? Скажи, Жюли.
– Кто говорил – пять. Кто говорил – два.
Ей захотелось понравиться и уязвить, она коснулась пальцем его губ и мушкетёрских усиков:
– Пять или два – всё равно зря.
Он перехватил на лету и небрежно поцеловал ловкую во всякой работе руку.
– Слышишь? Пока ты здесь, звонили раза четыре, не меньше. Могу спорить, что Марианна принимает вместо меня. Могу спорить, что за утро она успела пообещать мост, школу, прачечную и сиротский приют.
– И даст?
– Ей принесут сметы. Она отдаст их на рассмотрение. На это потребуется время.
Он сел, расстегнул воротник пунцовой пижамы на немного отёкшей шее.
– Она не даёт, она платит. Понимаешь, Юлька?
– Стиль «жена-американка»?
– Не знаю, я пока ещё не был женат на американке. «Мой капитал»! Она предоставила «всё, что имеет» в моё распоряжение. Улавливаешь разницу?
– Отлично улавливаю. Она тебя поимела.
Они молча курили. Эспиван устало, а возможно, и из хронического кокетства, прикрыл глаза тёмными веками. Жюли слушала легкие женские шаги в коридоре: «Может быть, это она… Я здесь уже больше часа… Так это всё, что он хотел мне сказать?»
– А всё-таки почему ты на ней женился? Эрбер открыл глаза, бросил на неё взгляд надменного педагога:
– Милое дитя, что за вопрос!.. Четыре месяца – день в день – на избирательную кампанию, прекрасная вдова, которая меня обхаживала, и общеизвестное положение безнадёжного должника… Вот в какой я был ситуации.
– Положение должника, даже общеизвестное, – всегда штука тёмная. А такая женитьба, как твоя, всё высвечивает как в ясный день.
– Если б я был только любовником Марианны, что бы запели хором дружки и политические противники на мотив «Откуда деньги»?
– Никто не спрашивает откуда деньги, когда кандидат избран.
Эспиван, развеселившись, приподнялся:
– Всё-то ты знаешь! Где ты это подцепила?
– У тебя. Я тебе преподношу обратно то, что ты говорил по поводу избрания Пюиламара.
Эрбер посмотрел на неё сквозь ресницы пристальным взглядом, ничуть её не смутившим.
– Решено и подписано: ты никогда не перестанешь меня изумлять, Юлька.
– Да, всё равно как скаковая лошадь, которая принимается выигрывать, едва хозяин её продал. Ты просто усатый младенец. Ты вообразил, что станешь богатым потому, что богата Марианна. Вот и всё твоё оправдание. Тебе были срочно необходимы всякие ненужные цацки, ты хотел машину, как у Аржиропуло, ты хотел задавать венецианские празднества, как Фошье-Маньяны, ты даже – ты даже хотел, чтобы у тебя была жена красивее, чем у кого-либо…
Она говорила свысока, собрав у прищуренных глаз паутину тонких морщинок, закрашенных серо-синей тушью. Эрбер не останавливал её, слушал, как колыбельную, смакуя лесть и оскорбления; он поднял руку протестующим жестом, и солнце, ударив в эту руку, высветило в её отёчности нечто такое, что на какой-то миг лишило Жюли дара речи.

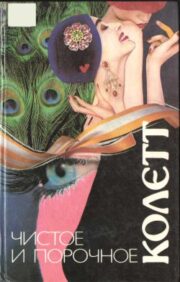
"Жюли де Карнейян" отзывы
Отзывы читателей о книге "Жюли де Карнейян". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Жюли де Карнейян" друзьям в соцсетях.