И она решала попросить у брата его кобылу Ласточку, но наутро просыпалась поздно и упускала момент. А Леон не давал Ласточку и предлагал ей Туллию, некрасивую, смирную, надёжную, наделённую всеми качествами хорошей гувернантки, и Жюли свысока обрывала его:
– Дорогой мой, пора бы тебе знать, что я не могу показаться в Лесу на чубарой лошади!
В смежной со студией кухне вода хлестала в ванну, заставляя мелодично вибрировать тонкую перегородку. «Десять часов!» Жюли вскочила, затянула пояс пижамы. Чувствуя себя свежей и бодрой, язык и нёбо – чистыми, она вспомнила, что накануне пила. К ней, как и к Карнейяну-отцу, чистый алкоголь был милостив, освежая лицо и мысли. Она могла, не греша против истины, похвастать, что никогда ещё никакой ликёр не проникал за преграду её здоровых и неровных зубов с широкими средними резцами и небольшими, глубоко посаженными крайними.
«Пойду сполосну зубы», – говорила она утром и шла попить воды из-под кухонного крана. Этот домашний эвфемизм стоил ей однажды, как она считала, только-только подцепленного красавца-лейтенанта, который не понимал шуток и подумал, что у неё вставная челюсть.
Она остановилась перед зеркалом, сморщила нос. Её кудряшки во сне развились и, свалявшись, торчали, как солома. «Как будто в конюшне ночевала», – констатировала она. Двинулась дальше и снова остановилась – позвонить. Неподвижная, она слушала долгие гудки. «Алло!.. Однако!.. Что? Господин Ватар ушёл? Уже?.. Ничего, спасибо». Она подцепила пальцем ноги свалившуюся туфлю, скорчила презрительную гримасу: «О-ля-ля! пропади он пропадом!» и отправилась в ту половину кухни, которая благодаря занавеске из прорезиненной ткани, скользящей по железному пруту, пышно именовалась ванной.
У изголовья ванны на тумбочке стояла двухконфорочная электрическая плитка. В отсутствие прислуги госпожа де Карнейян могла принимать ванну, одновременно следя за готовящимся завтраком. От нищего, но исполненного гордыни детства она сохранила глубокое бесстыдство, ставящее ни во что присутствие слуг. «Взбей мне воду, Пейр!» – кричала она огороднику в Карнейяне, когда ей было тринадцать, пятнадцать, шестнадцать… Тот шлёпал граблями по поверхности питаемого родниками рыбного пруда – Жюли боялась длинных невидимых тварей. Потом она командовала: «Отвернись!» – скидывала платье, сорочку, бросалась в воду, тёплую у Поверхности и ледяную в глубине, плескалась, вылезала, так же безразличная к возмутителю воды, как к собственной красоте…
– А, добрый день, госпожа дю Сабрие, – с шутливой церемонностью приветствовала она служанку, стаскивая пижаму.
Прежде чем залезть в ванну, она сделала несколько танцевальных па, с силой вдохнула и выдохнула. Госпожа Сабрие, не одобрявшая обнажённых красоток, отвернулась.
– Вы завтракаете дома, сударыня? Чего бы вы хотели на завтрак?
– Я бы хотела… я бы хотела чего-нибудь поэлегантней… Чёрное с белым очень элегантно – например, белый сыр и рыба в чёрном масле!
Она рассмеялась под шапкой пены, потому что намыливалась с головой, как мужчина. Госпожа Сабрие глубоко вздохнула.
– Несправедливо это… Нет у Бога справедливости, – сказала она. – Вы же пили вчера? Пили, я видела стаканы. И резвитесь, как рыбка. А я сроду ничего не пила, а вот всю разломило. И ведь вам сорок четыре. Это несправедливо.
– Я нелюбопытна, – сказала Жюли, – но хотелось бы знать, какой негодяй сообщил вам мой возраст.
Госпожа Сабрие наконец-то улыбнулась.
– А, то-то!.. У меня есть источники… Шофёр, который как-то привозил вам письмо. Шофёр с левого берега.
– Ах, вот что за народ на левом берегу? Пора с ними покончить. Где мой халат?
– Не натопчите мне, пожалуйста, мокрыми ногами. Он сказал, что узнал это от вашего первого мужа.
«Шофёр Эрбера», – подумала Жюли. В дверях она обернулась, следуя привычке обыгрывать каждый свой выход.
– От второго, госпожа Сабрие. От моего второго мужа. И у меня ещё всё впереди!
– Это несправедливо, – вздохнула госпожа Сабрие. – Вот ваши газеты.
«Эрбер… Умер? Не умер? Если умер, он на первой странице». Зажав газеты в мокрой руке, она отошла и села на кровать. «На первой странице его нет. Значит, он просто болен – на второй странице. Ага, что я говорила? «Мы рады сообщить, что внезапное недомогание графа д'Эспивана, депутата правых, по-видимому, не представляет опасности…»
– Ну вот! – вслух воскликнула Жюли. – Я же знала! Могла бы пойти в кино! Ишь ты! Профессора Аттутан и Жискар у постели больного – всего лишь! Марианна трясётся над своими припасами…
Она бросила газету, открыла единственный в студии шкаф, в который вделала зеркало с подсветкой, превратив его в гримёрную. Она умела мастерить, вся отдаваясь делу в приступе рвения, и быстро охладевала к своим работам, остававшимся свидетельствами её непостоянства и изобретательности.
«Шофёр с левого берега, – думала она. – Бывший мой шофёр Бопье, он привозил мне письмо от Тони. Это всё Тони… Что за чума эти подростки! Он хотел меня видеть. И нашёл с кем послать письмо – с шофёром своего отчима. У Эрбера мания держать шоферов до полного одряхления, он думает, что считалось шиком в кучере, шикарно и в водителе».
Она зачесала назад мокрые волосы, прилипшие к голове. С открытым неприкрашенным лицом, недовольно задумавшаяся, Жюли напоминала брата тем дикарским, хищным, что было в чертах обоих – впалыми висками, острым углом челюстей и подбородка. Но её выручал нос, а также румянец несокрушимого здоровья. Она увенчала этот очаровательный нос мазком жирного крема и растёрла его. Искусно подкрасилась, выдернула несколько волосков над верхней губой, живо завилась. «Прогуляюсь по Лесу. Только не в туфлях из кожи ящерицы, а то они и года не продержатся…»
Она бегом кинулась к зазвонившему телефону с весёлой злостью – как всегда, когда её беспокойная праздность и многолюдное одиночество заставляли её действовать.
– Алло!.. А, это ты, Коко? Значит, уже за полдень, и ты вышел из своей лавочки? О!.. Не получится… Я хотела погулять… Что?.. Нет, я хочу сегодня… Завтра – это уже не то… Что? Эрбер? Естественно, лучше. Ему только бы пугать людей… Ладно, сегодня вечером. Но я не люблю отложенных удовольствий. Что? Послушайте, дорогой мой, с кем вы, по-вашему, говорите?.. До вечера.
Она положила трубку и изобразила мальчишескую усмешечку, которая её неожиданным образом состарила. Тут же согнала её и вновь обрела серьёзность темпераментной и царственной блондинки. Через пять минут она была уже в белой блузке, в узкой чёрно-белой юбке и в чёрном жакете, бросавшем вызов моде. Немного слишком облегающий, наряд этот обнаруживал, что Жюли де Карнейян приближается к тому возрасту, когда женщина решается пожертвовать лицом ради силуэта.
«Сюда бы нужно лиловую гвоздику. Десять франков… Сегодня – нет». Она перерыла носовые платки, нашла один из лиловато-розового крепа, свернула в виде цветка, ловко расстригла ножницами и вставила в петлицу. «Блеск!» И так же быстро помрачнела: «Вот дура, платок стоит целый луидор».
Она считала на луидоры из снобизма и из приверженности тому, что называла «истинным шиком». Облака, заволакивающие небо, прогнали желание гулять. «Может, разбудить Люси? Может, позвонить к «Гермесу», спросить, когда у них распродажа? Может…»
Она вздрогнула, когда телефон зазвонил, едва она протянула к нему руку. Как многие, кому не на кого опереться, она только от телефона и ждала помощи.
– Алло!.. Да, это я. Как? Я не расслышала, повторите, пожалуйста. От кого?
Она слегка наклонилась, тон её изменился.
– Это… Это ты, Эрбер?.. Ну да, как и все, прочла в газете… Значит, ничего серьёзного?
Она издали увидела себя в зеркале и выпрямилась.
– Так нас напугать! Что? «Нас» – я имею в виду весь Париж, половину Франции, изрядную часть заграницы…
Она рассмеялась, послушала, смех оборвался.
– Откуда ты звонишь? Что? Приехать? К тебе? О, ничего, я собиралась завтракать одна… Нет, никаких… Да нет, я не отказываюсь! Но… а Марианна?.. Ладно. Да… Да нет же, что ты… Да, я её увижу в окно.
Она медленно опустила трубку на рычаг, надела чёрную соломенную шляпку, похожую на канотье времён её ранней юности, и открыла дверь в кухню.
– Госпожа Сабрие… – нерешительно проговорила она.
И, словно мгновенно пробудившись, повела носом.
– Что это так воняет?
– Да это же рыба, сударыня. Вы же сказали – белый сыр и рыба в чёрном масле…
– Какая гадость! Вы подумали…
Уголки её губ дрогнули, она жалобно сказала:
– Я просто пошутила. Съешьте свою рыбу сами! Оставьте мне сыр. Чего-нибудь куплю… Ладно, там посмотрим.
Она снова впала в нерешительность, вяло переставила какие-то безделушки, уселась на подоконник, положив ногу на ногу. Когда длинный чёрный автомобиль остановился среди тележек разносчиков перед продовольственным магазином, Жюли снова подобралась и сошла вниз поступью молодой девушки, с удовольствием ощущая лёгкость своей походки, упругость груди, свободу движений, не стесняемую никаким грузом избыточной плоти.
– Так и есть, это Бопье. Как жизнь, Бопье? Вы не меняетесь.
– Госпожа графиня мне льстит.
– Нет, Бопье. Вы всё тот же, потому что стоит недоглядеть хоть пять минут, вы болтаете о моём возрасте. Вы сказали моей прислуге, что мне сорок четыре года.
– Я? О! смею заверить госпожу графиню…
– Мне не сорок четыре, Бопье, а сорок пять. Мы едем домой.
– Домой… – в замешательстве повторил шофёр, – какой дом вы…
– Ваш, – ласково сказала госпожа де Карнейян. – Ну, наш. Тот самый, на улице Сен-Саба.
Дверца захлопнулась, и Жюли подвергла увозившую её машину строгому суду бедняка. «Машина выскочки… Купили в Автомобильном салоне. Из разряда "оставили-за-магараджой"… Эрбер всегда питал слабость к моторизованным катафалкам. Жемчужно-серое сукно! Почему бы уж тогда не пармский атлас? И впридачу шофёр в белой летней форме! Да, нельзя иметь всё сразу – и миллионы, и вкус…» От критики не ускользнул и махровый цветок, украшавший её жакет: она сняла его и выбросила в окно, когда машина въезжала во двор-сад особняка.

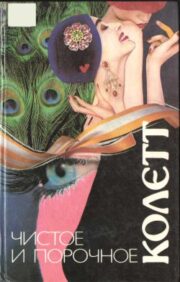
"Жюли де Карнейян" отзывы
Отзывы читателей о книге "Жюли де Карнейян". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Жюли де Карнейян" друзьям в соцсетях.