– Сударыня?.. Да, это здесь.
Она машинально сохраняла на лице белозубую полуулыбку, притворно близорукий дерзкий взгляд. «Но… Но это же Марианна… Марианна… Нет, что я, какая Марианна?.. Хоть бы это оказалась не Марианна».
– Моя фамилия д'Эспиван, – сказала незнакомка. Жюли уронила свободную руку, признала реальность происходящего и отступила.
– Проходите, сударыня.
Она исполнила свои обязанности хорошо воспитанной женщины, а госпожа д'Эспиван подавала соответствующие реплики.
– Может быть, присядете, сударыня?..
– Спасибо.
– Это кресло низковато…
– Нет-нет, очень удобно…
Потом обе замолчали. В Жюли карнейяновское легкомыслие уже перебивало тревогу. «Это и впрямь Марианна. Ну и дела! Люси будет потрясена. А уж Леон! Наконец-то я вижу знаменитую Марианну…»
– Сударыня, моё присутствие здесь должно вам казаться… странным…
– Боже мой, сударыня…
«Так мы потеряем немало времени, – подумала Жюли. – Голос у неё очень приятный… А Бопье там, внизу, в машине – вот уж кто, должно быть, совсем сбит с толку!»
– …но я пришла только потому, что об этом просил меня мой муж…
– Ах, вот как? Так это он…
– Это он. Он сегодня себя плохо чувствует. Действительно плохо, – повторила госпожа д'Эспиван, словно Жюли спорила. – Мне пришлось дожидаться, пока ему сделают укол.
– Надеюсь, ничего серьёзного? – сказала Жюли, «Очень приятный голос, мягкий, чуть кисловатый на высоких нотах… Но если мы будем продолжать в том же духе, – подумала она, – мне придётся оставить её ужинать… Надо же додуматься – выходить в четыре часа в чёрном вечернем платье! А эта шляпка с вуалеткой! Начать с того, что я вовсе не нахожу её такой уж изумительной, эту прекрасную Марианну…» Потом Жюли абстрагировалась от женской реакции и принялась понемногу извлекать настоящую Марианну из-под наслоений общественного мнения и личного злопыхательства. Она жадно выискивала «статую из розового воска», которую живописал Эспиван, сначала её не обнаружила и сочла за еврейскую бледность то, что было лишённым прозрачности телесным цветом, плотью, обладающей фактурой и непроницаемостью мрамора. «Да. При ярком свете она должна быть розовой».
– К сожалению, это серьёзно. Впрочем, мой муж сам поставил вас в известность – так он мне сказал – о состоянии своего сердца…
– В самом деле, сударыня, в самом деле. Но исход болезни во многом зависит от общего состояния, а Эспиван отличается… во всяком случае, отличался необычайной сопротивляемостью…
«И ля-ля-ля. и та-та-та, и какая прекрасная погода, – продолжала про себя Жюли и спохватилась: – О! я ещё не рассмотрела косы… О! вот это волосы…»
Госпожа д'Эспиван отбросила вуалетку, так что можно было видеть часть красно-коричневой массы её волос, блестящее выпуклое плетение диадемы из многократно перекрещивающихся кос, огибающих уши, стягивающих лоб и виски. «Поразительно! – признала Жюли. – Эта женщина сотворена, как некоторые статуэтки, исключительно из редкостных материалов – из нефрита, авантюрина, слоновой кости, аметиста… И оно живое? Да, живое. И она пришла ко мне. Она здесь, и ничуть не робеет, и куда меньше взволнована встречей со мной, чем я – встречей с ней… Ближе к делу, госпожа д'Эспиван, ближе к делу!»
– Я хотела бы разделять ваш оптимизм, сударыня, – говорила Марианна, – но… Должна вам сказать, что ваше недавнее требование очень обеспокоило мужа.
Она немного повернулась в кресле и подняла на Жюли глаза, очень тёмные, широко открытые, как у древнегреческой статуи, с густыми ресницами на верхних и нижних веках и голубоватыми белками. «Красивые глаза! Какие красивые глаза! – восхитилась Жюли. – И как мало она их обыгрывает! Она простая. Она и должна быть простой, чтобы прийти ко мне, даже если это он её послал… Что она такое сказала? Недавнее требование? Охотно верю, что оно недавнее, моё позавчерашнее письмо…»
– И за такое короткое время вы успели прийти к выводу, что моё… требование вызвало ухудшение в состоянии Эспивана?
Тёмные глаза обратились на Жюли:
– Мой муж, сударыня, ещё до болезни был чрезвычайно нервным…
«Спасибо за свежую информацию», – съязвила про себя Жюли. Но пассивность Марианны и её безысходная серьёзность убивали всякую иронию.
– …а у нервного человека беспокойство может за две недели значительно подорвать здоровье…
Жюли насторожилась при словах «две недели». «Осторожно… Это скользкий момент и я чего-то не понимаю… Две недели? Ах, подлец, чего же он ей наговорил?»
Она задумчиво повторила:
– Две недели?
– Возможно, немного больше, – сказала госпожа д'Эспиван. – Я помню, что недели две назад, вернувшись домой, я застала мужа очень взволнованным…
«У неё губы обведены каймой, как у некоторых очень красивых индусок, а в уголках губ – ямочки… Это великолепное создание, которое не имеет ни малейшего понятия, что ему к лицу…»
– Взволнованным, сударыня? Я не очень понимаю, каким образом могу быть ответственна за это… волнение.
Жюли распахнула жакет, потому что ей стало жарко, но главным образом для того, чтобы Марианна могла оценить её упругую грудь, её длинный гордый стан под серо-розовой блузкой. «Ба! Она сразу заметила, что я ещё не развалина». Было трудно воздерживаться от курения, и она протянула сигарету Марианне, однако та отказалась.
– Но вас, по крайней мере, не обеспокоит дым? Ах да, забыла, Эрбер ведь курит. Так вы говорили, что считаете меня ответственной за ухудшение… У господина д'Эспивана ведь что-то с сердцем, не так ли? Да, с сердцем. Безусловно, привычка скрывать свои чувства должна была переутомить его сердце.
«Я могу сколько угодно изощряться в иронии, она даже как будто не слышит. Может быть, это и есть в ней самое трогательное – эта смутная грусть, этот ореол вдовства, эта апатия доброй женщины. Одно мне кажется ясным: она грустна, значит, Эрбер действительно, как она сказала, действительно плох…»
– Сударыня, поверьте, я пришла к вам не для своего удовольствия, я сожалею о том, что вынуждена сказать, – говорила госпожа д'Эспиван. – Вы, должно быть, помните, что своё требование, законность которого мой муж не собирается оспаривать, вы сопроводили выражениями…
«Когда она напыживается, это уже выглядит немного по-бабьи, – думала Жюли. – Дело не в комплекции, она ещё не толстая. Ей не хватает класса. Безукоризненная красота и какая-то не поддающаяся определению заурядность… Она покраснела, когда я назвала Эспивана по имени. Но, милая дама, пора бы вам привыкнуть к мысли, что между Эрбером и мной, как говорится, что-то было. Уж не взыщите, нынешняя госпожа д'Эспиван!»
– …сопроводили выражениями, которые могут быть истолкованы как угроза, заставляют опасаться некоего… некоего нежелательного шума, затрагивающего имя моего мужа, его личную жизнь, даже его репутацию… Я не ошибаюсь?
«Как это? Что? Нежелательный шум… Его репутация? Я не могу попросить её повторить, она подумает, что я глухая или идиотка. Будь я благоразумна, я бы встала, вежливенько проводила её до дверей, и на том бы закончился фарс "Две госпожи д'Эспиван…"»
– Заметьте, я могу понять, – гнула своё Марианна, – что под давлением необходимости или во власти сильного чувства вы могли невольно употребить выражения… к каким прибегают лишь в безнадёжном положении… Но в главном я не извратила суть того, что передал мне мой муж, не так ли?
Жюли тупо смотрела на красивую женщину в чёрном, которая предъявляла ей обвинение с видимой опаской. «Это его работа… Он мот так со мной поступить! Он обвинил меня. Он всё, всё свалил на меня.
Он дал ей понять, что это я затеяла что-то вроде шантажа. О! но не могу же я это снести. Нельзя, чтобы Марианна считала меня способной на такое…» Но её уже ослепило некое высокое безумие. Она отрицательно покачала головой, прочистила горло:
– Эспиван сказал вам правду, сударыня.
Она отвернулась, загасила сигарету, увидела, что рука её дрожит, как только что дрожал голос, и почувствовала странную радость: «Ну вот, я это сказала! Сказала то, чего он хотел, я утопила себя, погубила, всё сделано, как он хотел. Но теперь пусть она уйдёт… Я скажу ей, чтоб уходила».
– Ну и не думайте больше об этом, забудем об этом, сударыня! – воскликнула Марианна. – Женщина не может всегда оставаться на высоте положения, – добавила она с какой-то плебейской наивностью. – Не надо больше об этом думать!
Столь щедро ободряемая, Жюли снова помрачнела. «Не думайте! Право слово, всякая пигалица только и знает, что лезть с советами – Коко Ватар, красотка Марианна… Не думайте! Попробуй-ка не думать, что Эрбер меня оклеветал, впутал во что-то грязное… Ещё не поздно одним только словом переубедить Марианну. Она не совсем в нём уверена… Она чует за всем этим белую руку Эрбера, хитрость Эрбера… Одно слово – и я всё изменю, если захочу. Этого, по крайней мере, ему не украсть…»
Строка, написанная резким почерком, прошла перед её глазами, и она прочла: «Жду тебя, моя Юлька…» Она не успела защититься, во рту вдруг собралась слюна, опережая слёзы, и она разрыдалась.
– Сударыня… сударыня… – бормотала где-то рядом Марианна.
Жюли безуспешно боролась со слезами, промокая глаза платочком. Она слышала собственные всхлипы и не могла их удержать. «Хуже ничего, ничего не могло со мной случиться… При ней! Плакать при ней! Хоть бы она ушла… Нет сидит как пришитая. Созерцает картину разрушения…» Она думала беспорядочно, вперемешку о своих Покрасневших глазах, о закапанной слезами блузке, о предательстве Эспивана: «Так со мной обойтись! Крепко же он во мне уверен! Крепче, чем в своей жене…»
Наконец она совладала с собой, без стеснения наскоро попудрилась, мокрым пальцем поправила ресницы.
– Я устроила сцену, – сказала Жюли. – И сцену чрезвычайно неприятную. Извините, пожалуйста.
Госпожа д'Эспиван сделала равно извиняющийся жест, поправила тюлевый воротничок, который и так был в полном порядке, машинально нащупывая на шее отсутствующую нитку жемчуга. «Она её сняла, отправляясь ко мне», – подумала Жюли, у которой быстро менялось настроение.

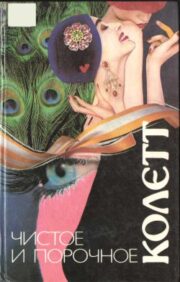
"Жюли де Карнейян" отзывы
Отзывы читателей о книге "Жюли де Карнейян". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Жюли де Карнейян" друзьям в соцсетях.