– Да нет, не выгоню, конечно, – ответила Нина. – Живи при мне сколько надо будет и сколько захочешь. Но не тунеядкой же.
– Тунеядцев теперь нет и спекулянтов нет! – радостно засмеялась Нинка-маленькая. – Их по новому закону отменили.
– Видишь ли, – рассудительно сказала Нина, – если бы я имела средства тебя кормить до скончания века, я бы ничего и не говорила. Но деньги у меня кончаются, жить, сама видишь, с каждым днем становится трудней, и я всех нас троих просто не вытяну.
– Одну комнату сдать можно. За доллары, – уверенно сказала Нинка-маленькая.
– А нам троим где ютиться? – ужаснулась Нина. – Ты что, совсем не собираешься устроиться работать?
– А куда? На стройку вонючую, что ли?
Так, круг жизни замкнулся, словно молния блеснула в голове у Нины мысль. Она приехала сюда десять лет назад и с неохотой подумывала о стройке, а теперь и эта соплюха так же насмешливо говорит про то же.
– На стройку не надо, – терпеливо сказала Нина.– Но давай начнем сначала. Чего бы ты вообще хотела? Ну, самого заветного.
– А ничего! – беззаботно ответила Нинка-маленькая.
– Как так – ничего?!
– А вот так! Ничего и есть ничего. Я хоть сейчас на шестнадцатый этаж поднимусь и из открытого окошка вниз без парашюта прыгну. Потому ничего и не хочу.
– Брось врать-то! – раздраженно сказала Нина.
– Показать? – вдруг спросила та и внезапно метнулась в парадные двери шестнадцатиэтажной башни.
Нина застыла с ребенком на руках, совершенно не зная, что ей делать.
– Вернись назад, дура! – крикнула она. Нинка-маленькая приоткрыла двери и ехидно засмеялась.
– Испугалась, да? Испугалась? Я бы хоть сейчас бросилась, да только записки не написала.
– Какой записки?
– А вот такой, посмертной. Я в ней напишу, что ты меня обманула, ребенка моего отняла, на свою фамилию написала, из дому гнала, в голоде держала и потому я свои расчеты с жизнью с шестнадцатого этажа покончила! Вот какая будет записка.
– Ах ты сволочь! – бессильно выдохнула Нина, разом понимая, что безоблачный радостный праздник в се жизни кончился и опять начинается муть и мрак. – Скажи наконец толком, чего ты хочешь?
– Я свободы хочу.
– Какой свободы?
– А чтоб ты меня дома не держала заместо кормящей свиноматки. Чтоб я на улицу ходила, с подругами познакомилась, чтоб компания была. Что ты меня в свою старушечью жизнь тянешь? Я ведь молодая, жить хочу!
– Так живи, – беспомощно ответила Нина.
– А ты не даешь!
– Да нет же, но Игоречка ведь я кормить не могу.
– Детское питание в магазине продают! С него хватит.
– Рано ему еще на питание переходить! – застонала Нина. – Материнское молоко лучшее питание.
– Обойдется, перетопчется! Все дети в Москве из пакетов питаются, а этот что еще за фон-барон?
– Хотя бы полгода покорми!
– Полгода и ни на один день больше! Если шапку и сапоги купишь.
Пришлось покупать. Пришлось терпеть и то, что Нинка-маленькая начала теперь подолгу исчезать из дому и не объясняла, где проводила время. Спала до полудня, сонно и раздраженно кормила мальчика, ела сама, охаивая любое блюдо, сваренное Ниной, а к вечеру исчезала. Но к очередной кормежке все же являлась и демонстративно зачеркивала в календаре очередной день – конец договоренности по кормежке приходился на май. Этот день был обведен красным фломастером, и что она выкинет после пришествия этого красного числа – Нине и на ум не приходило. Во всяком случае, ничего хорошего ждать не приходилось.
В феврале Нина решила подойти к вопросу воспитания своего ребенка по-научному и с этой целью отправилась в читальный зал районной библиотеки, заказала все, что могли ей подобрать об уходе за новорожденными, и ходила в этот читальный зал три дня подряд, часов по пять, по шесть вчитываясь в литературу и делая выписки в специальную тетрадь.
На пятый день Нинка запаниковала.
Выгнав Нинку-маленькую погулять, она распеленала ребенка и учинила Игорьку тщательнейший медицинский осмотр.
Результат оказался ужасен.
По ее диагнозу получалось, что у мальчика:
одна нога короче другой;
правое ухо больше левого;
реакция глаз на свет замедленная;
рефлексов в ногах нет никаких;
голова чересчур большая по отношению к телу;
зубы не режутся, хотя пора бы;
шея слабая, голову не держит;
легкие не развиваются, потому что почти не кричит, а следовательно, страдает ослаблением, астенией;
кроме того, налицо все признаки рахита;
и есть подозрения на церебральный паралич, а может быть – полиомиелит.
Нинке-маленькой она о своем ужасном открытии ничего не сказала, а сама провела ужасную ночь и на следующее утро повторила свой осмотр, результаты которого оказались еще кошмарней.
В полной панике Нина оделась, прихватила пушистую, черную махровую шаль, потому как мороз на дворе стоял жестокий, закутала Игорька и побежала в районную поликлинику.
По кабинетам врачей она бегала часа три-четыре, всем указывая на страшные признаки смертельных заболеваний и явного уродства ребенка. Ее выслушивали, сомнительно качали головами и говорили, что она несколько сгущает краски. После чего назначили анализы, просвечивания и целый ряд процедур, но у Нины хватило ума понять, что если подобного рода процедуры пройдет здоровый взрослый человек, то они его наверняка уморят.
Укутав ребенка, она вышла из поликлиники, прикидывая, как теперь справиться с этой нагрянувшей бедой.
Две цыганки столкнулись с ней у выхода из поликлиники, и одна из них, та, что постарше, раскрыла дремучие глаза и охнула, глядя в заплаканное лицо Нины.
– Умер ребенок, ах ты несчастная!
Нина не сразу поняла, в чем тут дело, и от страха перед таким предсказанием чуть не упала. Потом она сообразила, что цыганка сделала свой вывод, увидев, что ребенок завернут в черную шаль, и тут же закричала со злости:
– Да что б сама ты сдохла, ворона черная! Тебя ни о чем не спрашивают, и ты не каркай!
– Давай погадаю, – тут же запричитала скороговоркой цыганка. – Я по глазам вижу, что счастье тебе выпадет и большая светлая дорога, но ты его еще не знаешь, а я укажу, где дорога эта начинается.
– Пошла ты к черту!
Слезы хлынули из глаз Нины, она поспешно обошла цыганок, почти бегом устремилась по улице и не сразу услышала, что какой-то слабый голос зовет ее:
– Девушка, девушка, погодите.
Она обернулась.
Низкорослая, седая женщина поспешала за ней и, переведя дух, произнесла:
– Подождите, милая. Я уборщицей в поликлинике работаю и видела, как вы весь день по кабинетам метались.
– Ну и что? – неприязненно спросила Нина.
– Вы не сердитесь, – миролюбиво сказала старушка. – Я вас понимаю. Поликлиника наша в районе новая, врачи молодые, они умные ребята, но пока им особенно верить не надо.
– Я сама себе верю! – гордо сообщила Нина.
– Самой себе тоже не всегда безоглядно верить надо, – улыбнулась старушка. – Я вам вот что хочу сказать. У меня есть знакомый врач-старик. Он и детей моих поднял, и внуков патронирует. Если хотите, я вам его телефон дам. Он к вам сам на машине приедет и возьмет за визит очень недорого.
– И что? – недоверчиво спросила Нина.
– А то, что он уже сорок лет работает с грудничками. И никаких ему анализов, никаких рентгенов не надо. Он вашего ребенка на ладонь положит, два раза перевернет и тут же скажет, что и как у него есть. И сколько бы ты, милая, потом по всем лабораториям ни ходила, ничего другого тебе уже не скажут.
– Дерет небось зверски?
– Да нет же. Ему уже деньги копить ни к чему, ему до встречи с Богом немного осталось. Лишь бы он сам не хворый был и приехать мог.
Нина запомнила телефон, но к словам старушки отнеслась с недоверием. Однако вечером, по длительном размышлении, пришла к выводу, что коль дни жизни Игоречка уже сочтены, то лишняя отчаянная попытка в спасении не помешает, какой бы глупой она ни казалась. Не тащить же ребенка к знахаркам и колдунам, как ей посоветовала соседка Тамара Игнатьевна. Сама она только у всяких этих народных целителей и лечилась, ездила куда-то под Москву за сотни километров, но здоровья ей при этом не прибавлялось. А Нина в знахарок и колдунов не верила, поскольку по дням своей деревенской юности знала, что они из себя представляют. Но с Тамарой Игнатьевной следовало посоветоваться – теперь все средства были хороши, лишь бы спасти мальчишку.
Нина укачала Игорька и забежала к соседке. Та оторвалась от вязанья, выслушала Нину, а потом снова принялась сверкать и щелкать длинными спицами. Свою кооперативную квартиру она именно этими спицами себе и связала, а теперь вязала автомобиль для сына. Носик у Тамары Игнатьевны был пуговкой, волосики жиденькие, а голос писклявый, но всегда очень уверенный.
– В деревню Астаховку, под Тверь, тебе ехать надо, – решительно сказала она. – Там одна старушка есть, водичкой с золотого креста Господня твоего дитя окатит, слова нужные пошепчет, и все болезни с мальчика как рукой снимет.
Нина взяла адрес и этой старушки, но вечером все же позвонила по телефону, который дала ей уборщица больницы.
Ответил ей стариковский Дребезжащий голос, но по внутренней силе своей – очень бодрый и радостный.
– Болеет?
– Болеет! Совсем плох! – выкрикнула Нина.
– До утра доживет?
– Я думаю...
– Вы думаете, мамаша, или он задыхается и синеет?
– Нет. Не синеет. Но церебральный паралич...
– Ага. Ясно. От него разом не умирают, мамаша. Давайте адрес.
Нина дала адрес, и ей сказали, что визит свершится завтра в полдень, а гонорар составит двадцать пять рублей – деньги совсем плевые.
Старик, как и обещал, явился ровно в полдень. Был он маленький, большеголовый, быстрый и насмешливый. Никакой солидности. Черные глазки сверкали из-под очков с толстыми стеклами, спина горбилась, и на ребенка он поначалу даже и не смотрел, а впился своими глазками-буравчиками в Нину.

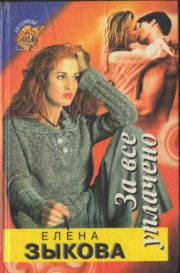
"За все уплачено" отзывы
Отзывы читателей о книге "За все уплачено". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "За все уплачено" друзьям в соцсетях.