Она встала, дошла до террасы, чтобы проверить, не подслушивает ли их способный исчезать, словно растаявшая снежинка на стекле, Фару-младший.
– Просто, Фанни, я думаю, что мужчина, который бы стал моим, который сделал бы меня своей женой… Знать, что этот мужчина в настоящий момент клеится к какой-то там театральной шлюхе, и философски рассуждать, что «он увлечён», что «такая уж у него профессия», – ну нет! Нет… Я восхищаюсь вами, но… я бы так никогда не смогла.
– Прекрасно, Джейн. К счастью, никто вас и не заставляет.
Джейн бросилась к Фанни, припав к её ногам.
– Фанни, скажите, вы на меня не сердитесь? У меня бывают дни, когда всё у меня получается не так, всё валится из рук, я становлюсь противной, нехорошей. Вы же знаете меня, Фанни…
Она прижималась к белому платью щеками и крохотными круглыми ушками, стараясь коснуться лбом руки подруги.
– У вас такие красивые волосы, моя маленькая Джейн, – прошептала Фанни.
Джейн жеманно рассмеялась:
– Вы говорите так, словно это может служить мне оправданием!
– В какой-то мере – да, Джейн, в какой-то мере. Я не могу сердиться на Джейн, у которой такие красивые волосы. Я не могу бранить Жана, когда у него слишком голубые глаза. А вы, ваши волосы, кожа, глаза – всё такого тонкого серебристо-пепельного цвета, словно лунная пыль, словно…
Джейн подняла к ней сердитое лицо, готовая вот-вот расплакаться, и выкрикнула:
– Нет у меня ничего красивого! Я ни на что не гожусь! Я заслуживаю, чтобы меня все презирали, чтобы меня остригли наголо, чтобы поколотили!
Она опять уронила голову на колени Фанни и горько зарыдала – как раз в тот момент, когда раздались первые раскаты грома, низкие и тихие, перебрасываемые от одной вершины к другой эхом невысоких гор.
«Это у неё нервы, – терпеливо подумала Фанни. – Это из-за грозы».
А Джейн уже успокаивалась, пожимала плечами, посмеиваясь сама над собой, и деликатно сморкалась.
«Надо же, – отметила про себя Фанни, – она сказала "театральная шлюха" и «клеиться». Раньше я никогда от неё не слышала ни жаргонных словечек, ни грубых выражений. В её устах подобное отклонение от нормы равнозначно грубому жесту. Грубый жест в такую погоду… Совсем странно».
– Чем бы нам заняться до ужина?
Джейн, сохраняя позу просительницы у ног Фанни, подняла голову.
– Не хотите ли съездить в город попить чаю у кондитера? Обратно можно было бы вернуться пешком…
– О! – Фанни изобразила на лице ужас.
– Что? Нет? Вы же полнеете, Фанни.
– Я всегда полнею, когда жарко, а у меня при этом в кошельке больше десяти тысяч франков. Вам ведь хорошо известно, как у нас обстоит дело с «порядком и прогулками», чтобы знать: возможностей похудеть у меня всегда хватает.
– О да… Хотите, я помою вам голову? Нет, не хотите. Хотите, мы надавим соку из оставшихся от обеда крыжовника и смородины? Горсть сахарного песка, немного ликёра, польём этим соком позавчерашний савойский пирог, чтобы он пропитался, подадим отдельно сливки в горшочке и получим на ужин ещё одно блюдо, совершенно бесплатно.
– Это отдаёт семейным пансионом, – сказала Фанни с отвращением. – Я не люблю обновлённых блюд.
– Как вам угодно, дорогая Фанни! Да убережёт вас Господь от семейных пансионов, где я действительно научилась множеству полезных вещей…
Этот мягкий упрёк, похоже, подействовал на Фанни, и она, опершись о плечи Джейн, встала.
– В конце концов, – воскликнула она, – сливки, сок крыжовника… Ладно, пусть будет так! Но при одном условии, Джейн…
– Я вся внимание…
– Приготовление этой кулинарной драгоценности вы возьмёте на себя. А я черкну пару слов Фару, сейчас только пойду поднимусь наверх, обольюсь холодной водой…
– И?..
– И всё. Это и так очень много!
Стоя она казалась не такой высокой, как лёжа. И ей недоставало какой-то кокетливой сдержанности, она покачивала своими красивыми бёдрами с какой-то доверчивой простотой. Джейн проводила её взглядом.
– Фанни, когда вы наденете корсет?
– Всё зависит от температуры, моя дорогая. Я ношу корсет при пяти градусах выше нуля. Поглядите на термометр. И постарайтесь, чтобы на этот раз сливки не свернулись. Я так люблю их…
Джейн подошла к ней и одёрнула задравшийся подол юбки, потом лёгким движением руки подколола ей прядь длинных чёрных волос.
– Вперёд, вредная Фанни! На этот раз всё будет в порядке. Я даже попытаюсь позвать на ужин Жана, стуча о миску, как делают на фермах, когда хотят задать курам корм. Чем только вы не заставляете заниматься свою подругу!
Она уже непринуждённо смеялась и собирала со скатерти в сложенную лодочкой ладонь увядшие лепестки, сдувала крошки, вытряхивала пепельницу…
«Свою подругу?.. Да, она моя подруга. Хотя подруга – это слишком сильно сказано… – размышляла Фанни на лестнице, подымаясь ступенька за ступенькой. – Кто когда-либо выказывал мне столько дружеских чувств? Никто. Стало быть, она и есть моя подруга, настоящая подруга. Странно, что мысленно я никогда не называю Джейн подругой…»
Как только Фанни оказалась у себя в спальне с двумя кроватями, она тут же сбросила одежду. Высокие ветви деревьев касались балкона, а ночью скреблись о закрытые ставни. Беспечный хозяин дома последние два года забывал их подрезать, и большой просвет в листве мало-помалу закрылся. Заросший деревьями волнистый ландшафт дышал меланхолией удалённых от воды мест. Никакой реки, море – в сотне лье, ни одного озера, куда опрокинулись бы небеса. Фасад дома и терраса, утром залитые солнцем, к двум часам обретали свое истинное лицо – с перекрестьями балок, навесами и шоколадного цвета ставнями, и соседний холм освещал всё это отражённым, ненастоящим светом, грустно подражавшим солнцу. Облокотившись о край балкона, Фанни, едва прикрытая рубашкой, созерцала пейзаж, про который, прощаясь с ним прошлым летом, думала, что никогда его больше не увидит.
«Так захотел Фару, – размышляла она. – Два лета подряд в одном и том же месте – такое с нами бывало нечасто. Но раз Фару здесь нравится…»
Она повернулась и обвела взглядом спальню, просторную, как гумно, казавшуюся ещё больше в полумраке прикрытых ставен.
«Здесь всё слишком большое. И всего двое слуг, что поделаешь… Если бы не Джейн, впору было бы бежать отсюда».
Она прислушивалась к неутомимым шагам в холле на первом этаже.
«Нет, она потрясающая женщина. В такую жару! И такая милая, когда у неё нет этих её приступов обидчивости. Пожалуй, чуть-чуть слишком полезная, чтобы быть подругой… Вот именно: чуть-чуть слишком полезная…»
Она заметила в зеркале своё отражение – беспечная смуглянка, руки в боки, волосы распущены – и стала его распекать:
«Ну и видок! И ещё смеет называть Джейн слишком полезной подругой. Это она-то, неспособная даже перепечатать на машинке рукописи Фару!»
Она деловито окунулась в прохладную воду, словно это было какое-то важное дело по хозяйству, потом причесалась, надела прошлогоднее летнее, голубое с лиловыми цветами, платье и села писать. Отыскав лист белой бумаги и жёлтый конверт для деловой переписки, она сочла их подходящими и принялась за письмо Фару.
«Дорогой Фару-старший!
Предоставив одной либо двум крошкам Аслен заботу разнообразить твою жизнь, могу подытожить наше существование всего двумя словами: ничего нового. Все ждём тебя. Деятельная Джейн изобретает изысканные блюда; Фару-младший по-прежнему ходит с лицом узника, томящегося в неуютных застенках своего возраста; наконец, твоя ленивая Фанни…»
С террасы послышалась английская песенка. «А-а! – подумала Фанни, – сегодня, значит, Джейн тоскует по Дейвидсону».
Она устыдилась своей шутки, потом стала себя оправдывать. «Ну что тут особенного! В том, что я так подумала, нет ничего плохого. В те дни, когда Джейн вспоминает о Дейвидсоне, она поёт по-английски. В те дни, когда это Мейрович, она зовёт Жана Фару: "Подите сюда, Жан, я научу вас танцевать польский народный танец!" А когда это Кемере, у неё просыпается любовь к лошадям и она выказывает глубокую нежную привязанность к пегой привычной к седлу бретонской кобыле.»
Фанни снова попудрила лицо, понаблюдала, как на ближайший холм надвигается тень от другого холма.
«Унылый всё-таки край. И что Фару нашёл здесь хорошего? Два лета подряд возвращаться в одно и то же место – такого за двенадцать лет супружеской жизни с нами ещё не случалось. Раньше я как-то не замечала, что здесь так уныло. На будущий год…»
Однако у неё не хватило духу загадывать на двенадцать месяцев вперёд.
«Прежде всего надо знать, будет ли закончена пьеса и сумеет ли Фару пройти по второму кругу в «Водевиле». А если во «Франсэ» в октябре возобновят "Аталанту"?.. О! Самая большая мудрость – не думать об этом».
Никакой иной мудрости она не знала.
«Главное – чтобы Фару вернулся сюда работать над своим третьим актом. Мы все так глупеем, когда его здесь нет…»
Бесшумный порыв ветра качнул касавшиеся балкона ветви липы так, что показалась белая изнанка их листьев. Фанни закончила письмо, вышла на балкон и, облокотившись о перила, осталась стоять там с распущенными волосами и обнажёнными плечами. Под ней, на террасе, Джейн, скрестив руки на невысокой балюстраде, тоже вглядывалась в окрестный пейзаж, в котором не хватало реки, пруда, журчания воды, опрокинутых отражений, тумана, запаха напоённого влагой цветущего берега. Фанни певуче окликнула её сверху, крик опустился к круглой головке с короткими, хорошо причёсанными пепельно-золотистыми волосами, и Джейн, не оборачиваясь, запрокинула назад голову, как делают кошки.
– Держу пари, вы опять спали!
– Нет, – ответила Фанни, – вовсе не спала. Не правится мне здесь, понимаете?
Джейн заёрзала, прижалась бёдрами к кирпичной стенке.
– Правда? Не может быть. С каких пор? Вы говорили об этом Фару? А вы разве не могли…

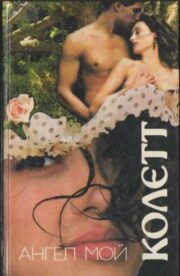
"Вторая" отзывы
Отзывы читателей о книге "Вторая". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Вторая" друзьям в соцсетях.