Советский Союз условно делится на какое-то количество псевдогосударств — условных республик. Думаю, отказ от российского деления на губернии — серьезная ошибка. В недрах этих псевдогосударственных единиц безусловно вызревают, как мухи в навозе, будущие тщеславные мятежники, готовые рушить великую империю и проливать реки крови.
Одна из этих псевдореспублик именуется Арменией. Андраника Озаняна, навлекшего несчастье на многих своих единоплеменников, вынужденных покинуть свои дома, в этой Армении почитают, но как бы несколько исподтишка. В официальных трудах русских историков имя Озаняна, генерала русской армии, пытавшегося создать из турецких армян «пятую колонну», не упоминается.
В этой Армении любят муссировать и мусолить «турецкие зверства в 1915 году». При этом называются несуразные цифры погибших при выселении из прифронтовых районов армян — миллионы. Хорошо, что не миллиарды. Доходит до трагикомических курьезов — черно-белую репродукцию с картины русского художника-баталиста Верещагина, изображающую рассыпанные в пустынной местности черепа, выдают за фотографию останков армян, погибших якобы от пресловутых «турецких зверств».
А теперь я прощусь с вами, оставив последнее слово за Наджие-ханым.
110
Я отправилась в квартиру в Шишли. М. тоже должен был прийти туда. Конечно, это авантюра. Я ведь никогда не сталкивалась с законом. Ему предписано выехать из города, он этого не сделал. Теперь он здесь, в этой квартире. Наниматель квартиры — я. Сколько времени он намеревается здесь скрываться? Что будет дальше? Чувствует ли он мою неуверенность?
Вот уже третий день мы не выходим из дома. Мне страшно оставаться и страшно уйти. Что предпринимает Джемиль? Вдруг моим родителям уже все известно? Я пришла сюда пешком. Просто падала от усталости. Вышла в зеленом чаршафе, потом свернула в один переулок, где, я знаю, можно пройти двором. Постучала в одну дверь. Сказала, что мне плохо, попросила воды. Какая-то пожилая женщина подала мне чашку. Я попросила позволения переодеть чаршаф. Сняла зеленый, завернула в бумагу, надела черный. Предосторожности. Хотя у меня не было ощущения, что за мной следят.
В квартире было по-прежнему как-то надмирно, вневременно. В гостиной били часы, бронзовый орел неподвижно распростер крылья над циферблатом.
Пришел М. Ключи он отдал мне и потому постучал. Я быстро открыла. В темном пальто он жался к стене. Я увидела его мягкие, чуть запекшиеся губы и потухшие глаза. В прихожей он как-то неуклюже снял пальто, остался в черных брюках и темном — под горло — пуловере.
111
Мы не прикасаемся друг к другу; мы оба сознаем, что этого делать нельзя.
Я стелю себе на диване в кабинете. Оставаться на ночь в спальне, где мы прежде… я не могу.
Он — подавленный, даже равнодушный. Есть почти не хочется — ни мне, ни ему. В первый день он молча прошел в спальню. Я приготовила кофе, понесла поднос. Дверь в спальню была открыта. Я увидела, что он спит на покрывале, не расстилая постель. Он выглядел измученным. Лежал на боку лицом ко мне, губы во сне чуть подрагивали. Я хотела уйти, но он почувствовал мой приход. Сел на постели с каким-то смущенным видом. Сидел с ногами на покрывале, привалившись к стене, ноги скрестил. Так он сидел в приморском домике Сабире, когда зашивал мне перчатку. Сейчас лицо у него осунулось, вытянулось, сузилось как-то и потемнело. Он посмотрел на меня, измученный и беззащитный, закрыл лицо ладонями и заплакал.
— Все, все потерял! — бормотал он сквозь плач.
— Не надо, не надо, — мягко повторяла я, поставив поднос на столик у кровати.
— Отец… мои сестры… там, в С., ты же знаешь, — он плакал громко, плечи его затряслись.
Я знала, что С. — это в Ванском вилайете, что это и есть прифронтовая полоса. Кто знает, как сложилась судьба его родных. Зачем этих людей соблазнили выступить против государства, гражданами которого они являлись? Ведь их обманули. Им внушали, что в армянском государстве им будет лучше, чем в Турции. Их поссорили с их соседями-турками. Во имя чего? Во имя того, чтобы горстка политиков плакалась где-нибудь в Париже: мол, вот, стремились создать армянское государство, а эти «звери-турки» не дали. Зачем они готовы проливать кровь своих единоплеменников, лишать их крова? Неужели им так трудно понять, что турецкая земля никогда не будет принадлежать им? Не будет!
Но я ничего этого не стала ему говорить. Может быть, и он был обманут; и он верил, что идет по пути свободы. Сейчас он действительно все потерял и я не хочу усиливать его мучения своими неосторожными словами.
Он начал бессвязно вспоминать о том, как спорили между собой его отец и дядя-болгарин. Дядя Димитр считал, что отец М. не должен уезжать из Болгарии и увозить детей, разве Болгария не родина ему… Отец М. в ответ горячился и толковал о каких-то якобы армянских землях; разумеется, не учитывая, что эти земли — не армянские, а турецкие, и что турки не отдадут своей земли…
— У меня, — громко шептал М., — у меня была возможность выбора… Я мог бы… можно было… в Пловдиве… остаться…
Он вдруг замолчал, посмотрел прямо на меня широко раскрытыми, воспаленными до красноты глазами и слабо махнул рукой.
— Все это… — хрипло выговорил он, — все это — уже все равно! А то, что я потерял тебя; то, что я потерял тебя, — это конец!
Он действительно любит меня.
— Успокойся, — мягко сказала я, останавливаясь у двери, — я не враг тебе. Отдохни. После подумаем, что делать.
Я вышла из спальни. Я не стала говорить ему, что я тоже люблю его; люблю несмотря ни на что. Я думаю, он и сам понимает это.
112
Идет четвертый день нашего затворничества. Вневременность (не подберу иного определения) нашей квартиры как-то успокаивает нас, отстраняет немного от всех проблем и мучений.
Сегодня в дверь позвонили. Мне передалось его страшное, паническое напряжение. Мы оба застыли: он — посреди гостиной, я — у двери в кабинет. Первый раз звонок прозвучал требовательно и длительно, затем еще несколько звонков, вслед за первым, легких, необязательных. Затем шаги по лестнице. Спускался один человек. Ушел.
Больше это не повторялось. Стены в доме толстые, а мы, разумеется не шумим.
М. все больше сидит в спальне, на постели. Все в той же позе — привалившись к стене и скрестив ноги на покрывале. Я сажусь на стул у двери.
Иногда он просит разбитым голосом:
— Не уходи. Посиди еще. Страшно остаться одному.
Я молча выполняю его просьбу. Я говорю мало, но стараюсь, чтобы мой голос звучал мягко. Мне страшно жаль его. Как ему помочь? Может быть, надо было просить Ибрагим-бея? Нет, он не согласился бы.
М. говорит довольно много. Его одолевают бессвязные воспоминания. Он вспоминает своих парижских друзей, пловдивских родственников; пикники на Босфоре, поездки на Принцевы острова, прогулки по истанбульским улицам.
Положение скверное. После всего, что произошло, ему никто из его турецких знакомых не поможет. Да и у его пациенток — не бог весть какие влиятельные мужья. У него один близкий человек — я. Получается, что я как бы в ответе за него. Да.
113
Он постепенно приходит в себя. Теперь мне кажется, что он часто говорит одно, а думает и чувствует совсем другое.
Мы снова начали анализировать политическую ситуацию. Я недооценивала его самолюбие. Любое мое осторожное (я не говорю резкое) критическое замечание в адрес армян он воспринимает как направленное лично против него. Но и в этих моих критических замечаниях не кроется ли желание (вероятно, следует сказать «подсознательное желание») уколоть его? Неужели мы снова начинаем бессознательно ненавидеть друг друга? Иногда меня охватывает странное ощущение: мне кажется, будто он сознает, что не любит меня; и чтобы не мучиться этой нелюбовью, ищет во мне дурное… Находит, конечно…
Какие-то мелочные придирки, язвительные реплики. Вчера говорили о том, что у нас кончаются те немногие съестные припасы, которые имелись. Я искренне тревожилась, что же будет дальше, на что решиться, что предпринять.
— Что же нам делать? — сидя на стуле, я склонилась вперед, сплела крепко пальцы рук.
— Тебе что делать? — он говорил сдержанно-язвительно. — Ничего. Ты в любой момент можешь уйти. Я вообще не понимаю, зачем ты прячешь меня? Хочешь продемонстрировать мне свою доброту? Нравится чувствовать себя добренькой и щедрой! Это твое стремление к театральным жестам…
Мне стало больно, потому что он сомневался в моей искренности. Надо было мне сдержаться; нет, заплакала. Или так и хотела показать ему свои слезы, чтобы расстрогать, разжалобить?
Начался было какой-то истерический сумбурный разговор. Вдруг он словно бы пожалел о своих словах, смутился, принялся благодарить меня. Подошел как-то униженно горбясь, вид затравленный, протянул руку. Я отпрянула. Кисть его руки показалась мне скорченной, сморщенной, будто старческая; стало страшно. Я поняла, что он хотел поцеловать мне руку. Поцеловать униженно, как целуют руку покровителя. У меня возникло ощущение жути.
— Не надо. Все хорошо. — Я ушла в кабинет.
Он боялся, что я рассержусь и оставлю его. Но, может быть, я так думаю только потому что хочу думать о нем плохое? Думать о нем плохое, чтобы оправдать себя?
114
Я сидела в кабинете, когда вдруг услышала неуклюжий удар об пол. Что-то тяжелое упало.
Я выбежала. Мгновенно поняла, где это произошло. Метнулась в ванную. Он лежал на плиточном полу, как-то странно скорчившись, и тихо стонал. Подбородок у него был немного ободран. Рядом валялась веревка, намыленная. Она сорвалась с крюка под потолком.

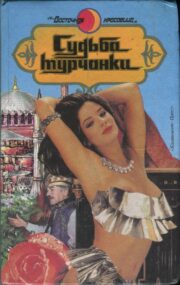
"Врач-армянин" отзывы
Отзывы читателей о книге "Врач-армянин". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Врач-армянин" друзьям в соцсетях.