Да простит меня небо, если у него есть на меня время! Я думала как лучше. Мне только хотелось – ведь я скоро снова обрету любимого, смысл всей моей жизни, – мне только хотелось, чтобы бедняжке не пришлось брести одной, попрошайкой, по синим от подтаявшего снега дорогам, в лужах грязной жижи с высохшими краями, я хотела, чтобы она здесь, за плотно задёрнутыми шторами, получила всё, что хотела, в обществе достаточно одушевлённого для этого красивого манекена… Хотела, чтобы она снова стала весёлой и боязливой, чтобы к ней вернулась улыбка обиженного ребёнка, праздная и изящная беззаботность… Бедная! Какое жалкое фиаско, как она, должно быть, на меня злится!
Позавчера вечером – было ветрено и сыро, подтаивало и обманчиво пахло весной – мы сидели за ужином, плотным крестьянским ужином: копчёное сало, цыплёнок в винном соусе, пудинг цвета красного дерева, политый старым ромом… Я решительно пила предательски сладкое фронтиньянское мускатное и без устали наливала ничего не подозревавшей Анни и заранее оповещённому Марселю – он был молчалив, дрожал и раз за разом опрокидывал одним махом свой бокал, словно чашу с ядом – раз! – а в глазах злость и страх…
Странный был вечер – с одной стороны полупьяная крошка, с другой – малыш с лицом фальшивого малолетки! Я казалась себе лёгкой и слепой, как натыкающийся на всё подряд мыльный пузырь, и настроена была благодушно. Другая, полная благородства и бескорыстной любви к ближнему душа укрепляла в тот час мою душу. И потому, «прикончив» Анни бокалом пунша, проводив на второй этаж изящную разношёрстную пару, пинком втолкнув Марселя в спальню Анни и бросив туда бирюзовую пижаму, я отправилась спать с облегчением, сгорая в благородной лихорадке, и не было в ней ничего порочного. Как всё хорошо! Негромкий крик, взволнованный и нежный, встревожил меня и заставил вернуться к двери, захлопнувшейся за нашими, если можно так выразиться, влюблёнными…
Я приникла к закрытой створке и, движимая скорее материнской заботой, чем любопытством, стала слушать… Тихо… Нет! Испуганный продолжительный шёпот, участвуют оба голоса… И всё… Нет. Стон, совсем тихий, но такой расстроенный, разочарованный!.. Стон многозначительный – я поймала себя на том, что бормочу под нос слова, весьма оскорбительные для третьего пола в лице Марселя… И снова тишина. А потом голос запыхавшегося Марселя – судя по тону, светские извинения… Я стучала зубами от холода и нервного смеха. У меня уже появилось предчувствие, что затея обернётся шутовством, двусмысленной пародией на сладострастие, но всё же не ожидала от Марселя такой позорной выходки – он выскочил из спальни, отдавив мне босые ноги, с таким измученным и презрительным «чёрт», что я сразу обо всём догадалась… Бледный, нос заострился, губы красные, глаза из синих стали чёрными… Он едва не опрокинул мою лампу и не столкнул меня саму с лестницы:
– А, Клодина! Так вы были тут? Развлекаетесь? Странный, однако, у вас вкус!
Оскорбившись в глубине души, я одёрнула его:
– Запомните, мальчик: я всегда делаю то, что считаю нужным!.. А здесь и подавно – я заварила эту кашу…
– Заварила кашу! Скажите на милость! Вот пусть ваша подруга её и расхлёбывает! Одна! А мне ни к чему такие сложности!
Я в гневе схватила его за руку:
– Ну и наглец! Что у вас случилось?
– Ничего! Оставьте меня в покое! Я пошёл спать. Он обиженно надулся, как школьник, вырвал у меня руку и стрелой помчался по коридору…
Я, постучав, тихонько вошла в спальню – бедная Анни плакала, уткнувшись в мятую подушку, разметав по ней длинные чёрные пряди неубранных волос… Сначала возмущение, гневное молчание, стиснутые зубы и закрытые глаза, однако мало-помалу мои дружеские объятия растапливали лёд. Она вся горела и пахла, как пахнут сандаловые палочки, когда их бросают в огонь, ничего не говорила, лишь рыдала, подавляя горькие стенания и тяжёлые вздохи, распиравшие грудь… Она не могла произнести ни слова, и мне была видна лишь лежащая у меня на плече чёрная, как оперенье ласточки, голова со струящимися волосами да кисти рук, которыми она в патетическом жесте закрыла лицо…
Успокоительное тепло моих объятий выжало из Анни каплю за каплей грустное и краткое признание.
Вздохи, то оборванные, начинающиеся с середины фразы, невнятные, но для меня ясные жалобы… – О! Какой он злой! Какой злой! Это из-за вас! Лучше умереть! О! Как мне плохо! Я уеду, не хочу его больше видеть… А я так радовалась! Ему так идёт синий цвет!.. Я сразу почувствовала, что ничего не получится! И тогда я закрыла глаза и, чтобы не потерять его, начала ласкать… Но я… я такая неловкая, только всё испортила… О! Какой он недобрый!.. Он назвал меня сударыней… и извинился так, словно наступил нечаянно на ногу… в тот самый момент, когда я умирала от стыда, что ничего не вышло… Клянусь, Клодина, лучше бы он меня оскорбил… Я уеду, мне так плохо! Это вы, Клодина, вы виноваты…
Увы! Я и сама это знала!.. Как её утешить? Какие найти извинения? Мне хотелось выбросить из памяти ребяческий грязный заговор, торгующегося Марселя, укачать Анни, а потом разбудить её словами: «Это был просто дурной сон…»
Изнемогая от угрызений совести и от нежности, я чуть было не сжала Анни по-настоящему, чуть не обвила руками её худенькую, вздрагивающую фигурку… Только ласка, только поцелуи – от кого бы они ни исходили – могли вылечить и утишить сожаления простодушной проститутки… Ей-же-ей, да простит меня Рено, жертва не потребовала бы от меня сверхъестественных усилий. Но я вовремя спохватилась, припомнила годы целомудренной дружбы, и эту серую зиму, объединившую нас обеих под мирной крышей, и Маргравский сад, где растерянная Анни беззаветно доверилась мне… Да и зачем? Зачем? Всего несколько дней и лихорадочных ночей, напоённых тёплым ароматом сандала и белой гвоздики, а после бедняжке станет ещё хуже… И я не сжала объятий, целовала Анни только в волосы и солёные от слёз щёки, потом распахнула окно тёплому чёрному ветру, уже несущему весеннюю радость… Я использовала всё: и настой цветков апельсинового дерева, и горячую грелку к изящным ледяным ногам, но ушла недовольная собой, замышляя скорое изгнание Марселя…
За завтраком мы оказываемся один на один с Марселем, сидим друг против друга, надменные и скованные. Анни осталась у себя… По правде сказать, мой красавец пасынок чувствует себя, видимо, в меньшем затруднении, чем я, но я отлично скрываю смущение под маской неприязни… Он начинает разговор с застенчивой, фальшивой любезностью. Бледноват, в сером пиджаке, в галстуке того же синего оттенка, что и его пижама.
– Сегодня отличная погода, не правда ли, Клодина? Настоящая весна!..
– Да. Отличная погода для путешествия! Вы ведь воспользуетесь этим?
– Я? Но…
– Да нет, разумеется, воспользуетесь. Исключительная возможность, и как раз в четыре отходит прямой поезд.
Он с удивлением смотрит на меня:
– Но… четырёхчасовой поезд скорый, здесь сажают только в первый класс, а мне не по средствам…
– Это я беру на себя.
Он продолжает говорить мрачным тоном, но опускает ресницы и даже позволяет себе гнусную улыбку:
– О! Как любезно с вашей стороны… Хотя, с другой стороны, вы мне обязаны: ну и настрадался я этой ночью!..
Как хочется ему наподдать, и только я успеваю подумать, что за пятьдесят лишних франков он и пытку согласится вынести… как дверь отворяется и появляется Анни… Ей, видимо, пришлось сделать над собой усилие, и в её светлых глазах сомнамбулы читается напряжение воли.
Я швыряю салфетку, бегу к ней:
– Вам не следовало спускаться, Анни! Зачем вы пришли?
– Не знаю… Я голодна. И мне скучно одной… От ужаса она улыбается светской, совершенно неуместной улыбкой.
– Садитесь. Марсель как раз только что сообщил мне о своём отъезде.
– А!..
Её светлые глаза закатываются, мелькают сиреневатые белки. Поторопим события!
– Да, он уезжает сегодня в четыре. Вам это не нравится, как я вижу?
– Нет, – отвечает она чуть слышно. – Он мог бы остаться до возвращения отца…
– Разумеется, – вежливо соглашается Марсель.
И чего он вмешивается? Я злюсь, потому что неправа:
– Да уж вы ему доставите массу удовольствий! Разве не видно, что Анни неможется, ей нужны отдых, уединение…
В ответ на свою раздосадованную тираду я получаю такой откровенно ироничный взгляд, что хладнокровие покидает меня:
– Да и вообще, чёрт побери! Хватит с меня! Да, я виновата, влезла не в своё дело и за это от всей души прошу прощения у Анни, потому что это не просто бестактность, это дурной поступок. Но вам, рыбка моя, вам я не должна ничего – разве что оплатить проезд до Парижа, и исчезните, потому что…
– Нет-нет! Терпеть не могу скандалов! Уже исчез! И мой пасынок спокойно встаёт, вильнув бёдрами, как может только он один, и не обращая внимания на застенчивое движение Анни – то ли остановить пытается, то ли пойти следом… Дверь захлопывается, и старая лестница скрипит под лёгкими шагами…
Мы остаёмся вдвоём. Я чувствую себя виноватой и злюсь, всё давит на меня, как будто приближается приступ лихорадки. Хочется пить. Я не осмеливаюсь взглянуть в глаза Анни, но вижу, как вздрагивает кружево пеньюара от ударов её сердца… Слабый вздох заставляет меня поднять взгляд на её лицо, продолговатое, смуглое, как спелый лесной орешек, – даже печаль не в силах внести беспорядок в застывшие черты.
– Ну вот… – шепчет она и снова вздыхает. И я вслед за ней:
– Ну вот…
Она окидывает меня лишённым выражения взором и тихонько жалуется:
– Что же мне остаётся?
Непонятно отчего обидевшись, я резко отвечаю:
– Четырёхчасовой поезд, если угодно. Или сын садовника. Марсель находит, что он очень даже ничего.
Анни медленно краснеет, заливается пурпурными, набегающими одна на другую волнами на смуглые щёки, маленькие ушки – и наивно и беззлобно признаётся:
– Я и сама о нём подумывала… Но всё же воздух иных мест кажется мне целебней.

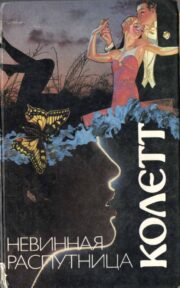
"Возвращение к себе" отзывы
Отзывы читателей о книге "Возвращение к себе". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Возвращение к себе" друзьям в соцсетях.