И я решила напиться, чтобы отпраздновать Святой-Ляп, я подняла бокал за Можи, а уж он за меня – не счесть сколько раз, я выпила за бледную, отрешённую Анни, она непонимающе, с отсутствующим видом улыбнулась, как школьница с дурными наклонностями… Я выпила за Марту Пайе и её мужа: он был по обыкновению «безукоризненно-шёлково-образцовым», она ослепительна: из-под вычурной шляпки мягкой волной спускались рыжие волосы – ни дать ни взять копия Фурнери с полотна Элё[16]… И, совсем опьянев, я выпила за Рено, протянув к нему в немой мольбе свой бокал… Наконец отходчивая Сюзи, развеселившись, налила мне ещё раз и, хохоча от всей души – глазки прикрыты, зубки выставлены на всеобщее обозрение, – предложила выпить за здоровье её отсутствующего мужа, который вкалывал для неё где-то на русских нефтепромыслах…
Я раздвоилась и с удовольствием рассматривала себя пьяную как бы со стороны: щёки горят, губы алые, кудри слегка развились от жары, а глаза такие огромные и жёлтые, что я ощущала, как они согревают мне веки… И я говорила, говорила, пользуясь своим блаженным состоянием и временной раздвоенностью, чтобы выплеснуть из себя те легкомысленные шутки, которые на трезвую голову всегда сдерживала от лени и стыдливости… Даже в самый разгар пьяного веселья я отчётливо видела лица Рено и Сюзи, Анни, Марты и Леона, налитую кровью физиономию Можи – они повернулись ко мне и смотрели внимательно и насмешливо, так глядит тот, кто уверен, что его самого не видят, например, тот, кто наблюдает за слепой… Нашли слепую! Мой горячий взор проникал в их души с любопытством, но не без презрения, остудить и обезоружить его могло лишь сине-чёрное озеро глаз Рено, сбитого с толку, встряхнувшегося и размышлявшего о тайных побудительных мотивах моего разнузданного пьянства…
С того самого дня я едва успевала считать свои победы. Если бы знали все Сюзи на свете, в чём заключается то, что они называют любовью мужчины, в то время как истинное название этого чувства: желание!..
Пришёл час, когда я уловила в возбуждении Рено нечто иное, чем вожделение: сначала слабое, потом судорожное и болезненное желание скрыться… Уступила ли ему Сюзи? Этого я так и не узнала. И не хочу знать. Рено и так слишком много мне потом о ней порассказал. Мне стало известно, к каким грубым «женским штучкам» она прибегала, как непристойно, словно опытная проститутка, прижималась к нему, стараясь возбудить, как клала ему на грудь надушенную головку и шептала: «Я такая бедная, одинокая… Я так нуждаюсь в нежности…» И как Сюзи распечатывала в присутствии Рено письма мужа, пробегала проницательным, быстрым оком по строчкам, не упуская ни одной, обнажая зубы в собачьем оскале… Однажды, пребывая в менее доброжелательном, чем обычно, настроении, она швырнула смятое письмо Рено: «Прочтите, если вам интересно… Нет, нет, вы читайте». Её тонкие, всегда прохладные пальцы уже разглаживали четыре исписанные чётким крупным почерком страницы. И Рено прочёл, а Сюзи склонилась у него над плечом. Он прочёл, вдруг похолодев, как ладони Сюзи, самые покорные и душераздирающие строки, какие только может измученный ревностью муж послать находящейся вдали от него любимой до безумия жене:
«Сюзи, дорогая… Как ты далеко… Будь благоразумна, но ни в чём себе не отказывай… Следи за здоровьем… Только не изменяй мне, любимая… Ты же знаешь, как мне тошно, как я без тебя страдаю, не изменяй – ты единственное, что у меня есть на свете…»
Вот этот-то крик души: «Не изменяй!», повторяющийся, униженный и безнадёжный, эта рабская готовность мужчины снести всё, чтобы сохранить Сюзи, – и оскорбительное веселье рыжеволосой красотки, что склонилась над письмом, касаясь щекой усов Рено… и положили конец франкской идиллии – сама я не видела этой сцены, но она живёт в моих воспоминаниях, и я дрожу над ней, как над изображением божества, как над фетишем, доказавшим свою силу…
– Анни, если и дальше погода будет портиться, лучше, наверное, перековать Полисона, чтобы не скользил. У него и так передние копыта не слишком, а если подморозит, он вообще во вторник не довезёт Рено с вокзала.
Анни сидит, сложа руки, взгляд пустой и безразличный – он то трогает меня, то злит. Не сказать, чтобы она ликовала! Но я же только что сказала: во вторник приезжает Рено! Мне хочется закричать, вдолбить эти три слова в её голову с узким личиком…
– Ну так как же, Анни?
Она пожимает плечами, переводит на меня потерянный взгляд синих глаз:
– Да не знаю. Какая мне разница, перекуют Полисона или нет? Вот уже несколько недель я благодаря вам избавлена от необходимости думать о доме, хозяйстве, о меню к обеду и ужину… Всё перешло вместе с Казаменой к вам: дом, парк, заботы владельца, всё… Вот и занимайтесь.
– Вы правы, Анни.
Я сама поражаюсь собственной снисходительной мягкости! Хозяин приезжает… И шея сама тянется к просторному ошейнику, к воображаемому ремешку, который и расстёгивать-то не надо, захоти я удрать… Но я не хочу. Пока я сказала только: «Вы правы». А скоро буду говорить: «Как вам угодно, Рено… пожалуйста… Да… Позвольте мне…» Пора воспитанным ласковым выражениям вернуться в мой лексикон, заменить в нём повелительные интонации, которыми я бичую безвольную Анни, уклончивого Марселя…
Тот так и бродит за мной по пятам, больной от безделья, встревоженный возвращением отца. Он теперь прячется от восточного ветра, который на прошлой неделе обжёг его нежные ушки…
– Вот, Марсель, возьмите с вешалки. Отнесите в большой шкаф. Я хочу освободить место для одежды Рено.
Он послушно берёт плечики, с любезной миной, но неуклюже, явно опасаясь сломать ноготь. У меня по всей комнате – очень скоро нашей с Рено комнате – разбросано бельё и платья. Я разбираю их, упиваясь беспорядком, пояс перевернулся, галстук съехал, скрученная в вопросительный знак прядь волос падает то на один, то на другой глаз. Лишь время от времени я прерываю работу и обеспокоенно заглядываю в зеркала трюмо: не подурнела ли?.. Бр!.. сойдёт… нормально… Угловатость фигуры не позволяет угадать мой настоящий возраст… блеск жёлтых глаз скрадывает впалость щёк, а верхняя губа «бантиком» словно удивляется тому, что осталась совсем детской… Он и на этот раз не заметит, вглядываясь в раскосые глаза и пухлые губы, как заострился подбородок и выступили скулы, как впала щека, огрубела кожа, в углах губ обозначились две скобочки морщин и фиолетовые, необычной формы – как стрелки – синяки окрасили внутренний угол век… Ладно, ладно, сойдёт…
– Отнесите их туда, Анни, это летние блузки.
– Куда «туда»?
– В большой шкаф в чёрном кабинете. Марсель вешает там плечики. Внизу темно, выставьте руки вперёд и идите. Если завизжит – значит, Марсель.
– Ой, – целомудренно пугается Анни, но спешно покидает меня: кто знает, может, и в самом деле…
А я всё раскладываю, развешиваю. Из плохо завязанной картонной коробки с дырявыми углами сыплются жёлтые листки, маленькие, толком не промытые, свернувшиеся в трубочку и порыжевшие фотографии… Я с трудом узнаю в них снимки, которые мы с Рено делали восемь лет назад в прекрасном путешествии эгоистов в Бель-Иль-ан-Мер…
В то время Сара Бернар не успела ещё освоить косу Пулен, выровнять неосязаемый, ускользающий песок – он просачивался прохладными, сухими струйками между пальцев, переливаясь тысячами и тысячами обращённых в порошок рубинов, блёстками всех на свете розовых и лиловых оттенков…
Нигде я, воспитанная вдали от моря, так не наслаждалась им, как здесь. Солёная лихорадка заставляла колотиться моё сердце ночью, электризовала мой сон; а днём я упивалась морским воздухом, пока, выбившись из сил, не засыпала мёртвым сном в ложбинке какой-нибудь скалы на покрытом бороздками песке, припудривавшем мне волосы… Океан лизал мои загорелые стройные, всегда босые ноги, полировал мне ногти… Я без устали смотрела, как по волнам ослепительного, густого зелено-синего цвета скользили судёнышки, наклонив, как крылья, паруса, кораллово-розовые, бледно-бирюзовые, – цвет волн от них казался ещё ярче и неестественней…
Упоительная лень скрадывала время. Наши мысли, праздные, помолодевшие, как две молчаливо идущие по следу собаки, были заняты исключительно набегавшими облаками, сменой направления ветра, мне не забыть сосредоточенное выражение на лице Рено, когда он, ошалев от собственной смелости, протягивал палец к сердитому крабу, а тот подпрыгивал и щёлкал клешнями, красный, будто уже варёный… С одной стороны нас мочил дождь побережья, мелкий-мелкий, он серебряной пылью оседал на наших щеках и волосах, с другой сушил ветер. Только голод мог прогнать нас с пляжа, и мы шли к большому деревянному дому, где пахло как на корабле, я взлетала по лестнице, спеша к бульону из мелких омаров или нарезанному толстыми кусками, как говядина, тунцу, – я прыгала по ступеням, и мои босые прохладные ноги дикарки оставляли на них мокрые следы…
Однажды вечером жалобные нежные звуки заставили нас выйти на балкон из розового кирпича… При свете звёзд девушки в замысловатых чепцах – они работали тут неподалёку на заводе по изготовлению сардин, – взявшись за руки, заунывно пели, и их плотный круг двигался в причудливом прерывистом, на пять счетов, ритме фарандолы:
Нет, нет, нет, любимый мой,
Нет, не со мной…
Вспыхивал огонёк трубки, и я различала яркую, расшитую цветами шаль, накрахмаленный до жёсткости чепец с топорщившимися краями, обветренную круглую щеку, поблёскивание серебряных украшений…
Незадолго перед этим, в сумерках, молоденькие, загорелые до черноты работницы парами и по трое лениво прогуливались по пляжу, без всякой цели, словно стремясь украсить белый песок и сиреневатые скалы своими яркими шалями и ослепительными чепцами… Они вдруг возникали в самом низу ложбины, там, где дорога, поросшая колючим можжевельником, делала поворот, – молчаливые, вопрошающие, с покорным лукавым видом, как прирученные молодые зверюшки… Однажды ночью, когда луна серебрила спокойное море и топила в голубой неосязаемой измороси свет маяка Кервилау, одна из девушек, самая смелая, с благоговением в голосе окликнула нас:

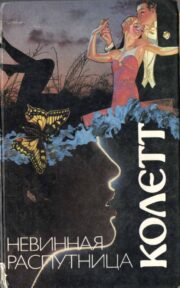
"Возвращение к себе" отзывы
Отзывы читателей о книге "Возвращение к себе". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Возвращение к себе" друзьям в соцсетях.