— Я бы тебе кое в чем призналась, но ты у нас пуританка, — сказала однажды Таня, лукаво поглядывая на Лену, и Лена почему-то подумала, что Танька сделала тот знаменательный, торжественный шаг, который в прежние времена совершался лишь в первую брачную ночь. «Что ж, нам ведь уже семнадцать, — подумала тогда Лена. — Не все же такие, как я…»
— Неужели ты вправду ни с кем ни разу не целовалась? — приставала к ней Таня.
Хотелось крикнуть в ответ, что спрашивать об этом жестоко: разве женская это инициатива, разве виновата Лена, что никто, ни разу не захотел ее поцеловать? Но она сдерживалась, отшучивалась, уходила от прямого ответа, переводила разговор на другое. Теперь, глядя на то, как запросто оттащили от нее Диму, Лена впервые подумала, как она дико несовременна со своими понятиями — что можно и чего нельзя.
Елка стала вдруг расплываться, стали расплываться танцующие, и Лена поняла, что плачет. Ужас какой! Хорошо, что в зале почти темно. «Прекрати сейчас же! — приказала себе Лена. — Немедленно прекрати. Это все вино, и еще — слова Димки, его рука… Не думай! Не представляй и не вспоминай! Потом все вспомнишь». Она вынула из сумки платок, глядя в зеркальце, осторожно промокнула глаза. Вроде ничего, не размазалось.
— А ты почему не танцуешь?
Запыхавшаяся, веселая Таня стояла перед подругой, загораживая собой Диму. Синие глаза с жадным любопытством смотрели на Лену. Нет, все-таки в человеке много садизма.
— Устала, — с трудом шевеля губами, ответила Лена и подивилась несуразности своего ответа.
Дима выдвинулся из-за Тани. Лицо словно окаменело, желваки выступили на скулах.
— Можно сесть рядом? — спросил он и, не дожидаясь ответа, сел. — По теории вероятности следующим должен быть медленный танец. Позволишь тебя пригласить?
Снова затуманилась елка, качнулось странно обиженное лицо затоптавшейся на месте Тани. Лена молча кивнула. Вздохнули басы, и поплыл над залом бархатный голос. «Only you» — любимая мелодия, чарующие, завораживающие слова… Дима встал, протянул руку, повел Лену в круг, обнял за талию. Она положила руки ему на плечи, и они закачались в танце, впитывая в себя вечное признание в любви, положенное на музыку.
— Как у тебя пахнут волосы… Какая ты сегодня красивая… Как я раньше не замечал?
Это говорят ей, дурнушке? Или над ней смеются? Волосы в самом деле всегда пахнут травами, свежестью, как у мамы. Фигура, кажется, вполне ничего. И глаза — тоже. Но волосы, как ни старайся, не в состоянии продержаться завитыми даже один вечер, а нос, безусловно, слишком велик. «Only you»… Что там ей шепчет Димка? Неужели эти слова — для нее? Совсем рядом проплыли Геннадьевич с застывшей прекрасной статуей Элизабет.
— Встретились? — рассеянно улыбнулся Лене учитель. — Он тебя все цитировал, на тебя ссылался.
— Кто?
— Да Дима твой, Дима. «Твой…»
Невероятно. Нет, это сон.
4
Как это все получилось? Где, в чем ошиблась она? Колледж, занятия, грядущее поступление в вуз, а она о чем думает? О новогоднем вечере в школе… Крутится в голове, как заезженная пластинка, сияют радостью раскосые глаза Димы. «Какая ты сегодня красивая…» Внезапно в их дуэт врезается Таня.
— Дим, а Дим, ты у нас сегодня главный? Ну нет охранника, куда-то смылся, а у меня сумка в классе… Говорят, в учительской имеются вторые ключи, но туда простой народ не пускают.
Лена с Димой сидят все в том же углу, укрывшись от грохота ревущих динамиков. Ее рука — в его руке, их лица друг к другу так близко…
— Может, выйдем на улицу? — спрашивает Дима. — Здесь такой грохот.
— Ага, — радостно соглашается Лена. — Пойдем погуляем. Смотри, какой снег за окном.
— Подожди меня здесь. Пойду раздобуду ключ, там ведь и наши куртки.
— Мы тогда тебя позовем, — лукаво обещает Таня.
Она хватает Диму за руку, тащит к дверям. Он оглядывается на Лену, хочет что-то сказать, но не успевает — Таня ловка и быстра. Какое-то время Лена сидит и ждет. Потом, поддавшись неясному чувству смутной тревоги, встает и выходит на одеревеневших ногах из зала, медленно идет к классу. Большой, длинный ключ вызывающе торчит в скважине. Значит, ключ отыскали. «Не надо, не открывай», — шепчет ей ангел-хранитель, но когда это мы слушаем благие советы, пусть даже нашего святого заступника? Ледяными пальцами берется Лена за ручку, тянет дверь на себя. Уличные фонари бросают призрачный свет на неубранный длинный стол, сваленные в кучу дубленки и куртки, на две фигуры в углу, слившиеся в полутьме воедино.
Дима как ошпаренный отскакивает от Тани, бормочет что-то бессвязное, жалкое; Таня встает не спеша, поправляет белокурые волосы, идет, покачивая бедрами, к выключателю, зажигает свет.
— А мы как раз собирались тебя позвать.
— Я за курткой. — Губы слушаются с трудом. Проклятая куртка зарылась в груде себе подобных. — Я только за курткой, — словно оправдывается Лена.
Почему ей так стыдно? Она не может смотреть Диме в глаза, она торопится скорее уйти. Ах, вот она, куртка! Вот — сапоги.
— Я тебе помогу, — бросается к ней Дима.
— Не надо.
— Подожди! Ведь мы собирались гулять…
Он, что ли, сошел с ума?
— Что ж, я не против, — звенит голос Тани. — Ленусь, разве ты ночуешь не у меня?
Нет, это не Дима, не Таня, это она, Лена, должно быть, сошла с ума. Быстро, бегом — вон отсюда!
На улице мокрыми хлопьями падает снег. Ветер свирепо швыряет его в лицо. Почти ничего не видно, а тут еще эти дурацкие слезы… Наклонившись, согнувшись, оскальзываясь, Лена почти бежит к метро: вдруг следом за ней выскочил Димка? Вдруг — вместе с ним — лучшая подруга Таня? Глупости, глупости, они там, в тепле, в темноте, вместе. Преодолевая сопротивление ветра, Лена толкает тяжелую дверь метро, клубы пара вырываются ей навстречу. Хорошо, что еще открыто… А вот что делать у «Юго-Западной»… Маршрутки уже не ходят, автобусы — да, но, боже, так редко! Ничего, прорвемся. На смену отчаянию, страху, стыду приходит лихорадочная веселость. «Ладно, — встряхивает головой Лена. — Негативный опыт — тоже опыт. Но Танька… Все уши прожужжала каким-то неведомым Ромкой, зачем же ей Дима? А он?.. «Какая ты сегодня красивая…» И вдруг… Жалкое, виноватое лицо Димки маячит перед глазами. «Мы собирались гулять…» С ума сойти!
Механически, машинально, привычно и быстро идет Лена по эскалаторам, обгоняя медлительных редких пассажиров, пулей проскакивает переходы. На «Юго-Западной», вынырнув из метро, махнув рукой на предосторожность — что может ее теперь напугать? — садится в первую подвернувшуюся машину. Хорошо, что есть деньги, да и запросил припозднившийся водитель по-божески: видимо, по пути.
Что ж это сумка такая тяжелая? Ах да, вино так и не вытащили. Подарить, что ли, этому парню? Покосившись на водителя, Лена открывает сумку, но вовремя останавливается: может не так понять, да и Новый год на носу, пригодится вино-то, не пропадет.
— Детка, я думала, ты у Тани… Разве можно — одной, ночью?
Лицо у мамы виноватое и смущенное, но радость так и брызжет из-под ресниц, алеют щеки, волнами сбегают на плечи пышные волосы. Ее любимая, цвета морской волны блуза надета прямо на голое тело, и просвечивает сквозь полупрозрачную ткань высокая, молодая грудь. На столе вино, две рюмки, остатки торта!
Лена отводит взгляд в сторону: все это кажется ей неприличным. А если бы она пришла раньше? Как в ознобе передергивает она плечами. Все-таки странно: сорок пять, а туда же…
— Хочешь чаю? — суетится мать. — Смотри какой торт! Раньше таких не было, правда? Взбитые сливки и фрукты, а внизу тонкий коржик. Потрясающая вкуснятина!
Да, хорошо бы сейчас горячего чаю. После терпкого сухого вина, танцев, мокрого снега, грохота метро, после смутной, неясной надежды, разочарования, стыда и страха что может быть лучше? Но эта непристойная радость матери… Эта блузка на голое тело, и брюки — тоже небось на голом… Да-да, именно так, Лена уверена.
— Нет, спасибо, — сухо говорит она. — Я хочу спать.
Свет гаснет в материнских глазах, будто кто их выключил. Наталья Петровна медленно садится на стул, растерянно помешивает чай в маленькой фарфоровой, еще от бабушки, чашке. Дрожит рука, позвякивает браслет на тонком запястье, позвякивает серебряная, с надписью «Наташа» ложечка. Да, здесь был праздник: все семейные ценности извлечены из серванта. Только теперь замечает Лена длинный серебристый шарф, висящий на стуле. Подарок, значит. А как же! Ведь Новый год мамин хахаль, конечно, будет встречать в семье. Какая гадость! Везде, на каждом шагу — грязь и предательство.
— Деточка, что с тобой? — робко спрашивает мама.
И тут Лена взрывается.
— Не смей называть меня деточкой! — кричит она, и слезы ярости и отчаяния застилают безумные от горя глаза. — Мне что, три года? Мне уже, слава богу, семнадцать! Какая я тебе деточка?
— Для меня ты всегда будешь маленькой, — успевает вымолвить мать.
— Придется тебе смириться, — заглушает ее слова Ленин крик, — да-да, смириться с тем, что у тебя уже взрослая дочь и ты давно уже едешь с ярмарки!
Едкая насмешка кривит губы Лены, и мать совершенно теряется от этой явной, неприкрытой злобы.
— Ну зачем ты так? — беспомощно шепчет она.
— Зачем-зачем, — передразнивает ее Лена. — Отстань от меня!
Она хлопает дверью так, что на столе подпрыгивают вилки, и скрывается в своей комнате. Вот уж где дает она волю слезам! Лена плачет, как маленькая, жалко шмыгая мокрым, распухшим носом, размазывая по лицу черную тушь и голубые тени, стараясь не видеть перед собой ни предателя Диму, ни улыбающуюся беленькую Таню — как она могла? Почему? Но они неустанно маячат перед глазами, никуда от них не скрыться, не спрятаться, никак не избыть этого двойного предательства.

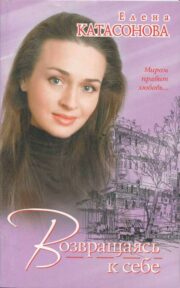
"Возвращаясь к себе" отзывы
Отзывы читателей о книге "Возвращаясь к себе". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Возвращаясь к себе" друзьям в соцсетях.