Елена Катасонова
Возвращаясь к себе
Часть первая
Когда Бог хочет разбить человеку сердце, он дает ему побольше ума.
1
— Не могу я больше здесь жить! Здесь жить невозможно! Идешь между домов — ветер воет, как зверь, вокруг — ни души! Пустыри, пустыри… И торчат унылые вышки — дома…
— Леночка, успокойся, ты просто устала. Конечно, темно — ну нет фонарей, хоть сдохни! — и северный ветер сбивает с ног, но вот-вот начнет прибывать день, станет легче, светлее…
Наталья Петровна подошла к дочери, обняла за плечи, погладила по развившимся за день коричневым волосам. Лена сидела у стола, бессильно уронив голову на руки, скрывая лицо от матери.
— Я устала, — простонала она.
— Я знаю, родненькая моя.
— А на завтра столько всего! И английский, и теория права да еще этот чертов французский! Кому он нужен?
— Любые знания когда-нибудь пригодятся, — мягко возразила Наталья Петровна; по опыту своей жизни она это знала точно. — И потом — мы же вместе выбрали юридический колледж. Он, правда, трудный и дорогой… — Она осеклась испуганно: еще подумает — упрекает. — Давай-ка ужинать, все готово, разогреть только. Проголодалась?
— А ты как думаешь? — буркнула Лена, но голову подняла, встала, тяжело опираясь о стол, и пошла к себе в комнату — переодеваться.
Слава богу, гроза миновала. Наталья Петровна быстро и машинально перекрестилась, хотя истинно верующей не была, и, мягко ступая меховыми, подаренными Лешей тапочками, поспешила на кухню. Сегодня она получила сразу за три урока, плюс школьные гроши, накупила по дороге домой всякой снеди, и ужин Леночку ждал роскошный.
— Ого, ножки Буша! — воскликнула дочь. — А помидоры откуда?
— Из магазина! — улыбнулась мать, с любовью и грустью глядя на оживленное родное лицо. — Помнишь фильм «Блондинка за углом»?
— Еще бы! Как мы тогда веселились, хотя вообще-то фильм грустный.
— Потому что про нашу тогдашнюю жизнь. Теперь такой ответ уже не вызовет смеха: все действительно есть в магазинах, были бы деньги.
Они уселись напротив друг друга.
— Мать, ты транжирка! — осуждающе сказала Лена, уплетая за обе щеки салат. — Зачем ты так тратишь деньги?
— А что еще с ними делать? — засмеялась Наталья Петровна. — Солить? Учеников у меня теперь — хоть отбавляй: новый район, преподавателей не так уж много. Все сейчас рвутся осваивать мой английский.
— Твой? — иронически подняла брови Лена, и мать сразу смешалась.
— Я хочу сказать — у меня, — торопливо объяснила она. — Родители передают по цепочке, что есть, мол, хороший преподаватель.
— Классный преподаватель, — не без ехидства уточнила Лена. — От скромности ты, мамочка, не помрешь… Ну что ж, спасибо за ужин. Пойду заниматься.
Отодвинув стул, она встала и ушла к себе. Тишина воцарилась в доме. Наталья Петровна плотно закрыла обе двери — в большую, общую комнату, где она спала на диване, и в кухню, чтобы ни звука не долетало до Леночки, включила на тихое старый маленький телевизор — скоро должны были передавать новости — и принялась мыть посуду, прибирать со стола, краем уха улавливая еле слышное бормотание диктора, думая свои невеселые думы.
Бедная девочка! Плохо ей в новом спальном районе, на самом краю огромной Москвы, да что там, практически за Москвой. Одиноко и плохо, несмотря на отдельную квартиру, на собственную — впервые в жизни — комнату. Росла хоть и в коммуналке, но зато в самом центре. Там и школа поблизости — одна из лучших, с традициями, — и театры рядом — а Леночка в мать: заядлая театралка, — и каждую зиму там заливают на Чистых прудах каток, где дружно катается ее класс, и Леночка признанной была заводилой.
Все любили ее. Учителя — за играючи получаемые пятерки, призы на олимпиадах — это ведь побеждала школа! — любили за смешные, остроумные «стишаты», как называла их Лена, — к дням рождения, памятным датам, за веселый, ироничный характер. Мальчишки охотно общались с Леной — им было с ней интересно, с ней можно было дружить, как с отличным парнем; подруги уважали ее за начитанность, за неизменную готовность написать, кому требуется, сочинение, сварганить и передать шпаргалку, в просторечии именуемую «шпорой». И еще за то, что Лена — никому не соперница: за ней никто не ухаживал.
Высокая, худая, с прямыми длинными волосами — как ни накручивай, все равно к вечеру разовьются, — с продолговатым, бледным лицом, она была некрасива, и сама знала это.
— Сейчас такая косметика, — уговаривала лучшая подруга Таня, маленькая, хорошенькая, белокурая, — почему ты не красишься?
— Не знаю, — пожимала плечами Лена, хотя на самом деле знала отлично: из-за гордости.
Разве красота — самое главное? А ум, образованность — пустяки? Неужели она никому не нужна — с тем могучим и сильным, что есть у нее? Она спорила с учителями на равных, ее сочинениями гордилась школа, ее стихи наперебой цитировали, покатываясь со смеху, одноклассники:
И не всегда, увы, чисты
Сии прекрасные власы.
Но — чу, не смеем мы носы
Совать в подробности красы…
Хотя Танька тогда жутко обиделась: это ведь про ее «власы» метко прошлась в поэме ко дню рождения подруги Лена. Но в основном поэма торжественно восхваляла Таню, и пришлось, конечно, Лену простить. А к своим роскошным белокурым волосам Таня стала относиться внимательнее — подействовала все-таки критика! — мыть через день.
«Неужели никто меня не полюбит? — терзалась Лена. — Нет, этого не может быть! Жизнь не может быть так жестока…» Ах, дурочка… Несмотря на страшилки, ежевечерне пугающие народ, ничего пока Лена о жизни не знала. Впрочем, телевизор она почти не смотрела: в их доме он был не в чести.
— У тебя красивые глаза, — великодушно говорила Таня. — Такие коричневые, я прямо завидую. Если их подвести и подкрасить ресницы…
Вечерами в коммуналке, запершись в общей ванной, Лена придирчиво разглядывала себя в зеркало. Глаза и вправду вроде бы ничего, но цвет лица, но большой нос…
— Эй, кто там застрял? — стучал кто-нибудь из соседей, и Лена, оторвавшись от зеркала, торопливо освобождала ванную.
«Почему я в отца, а не в маму? — думала она печально. — Маме уже за сорок, а какая она хорошенькая: глаза темные, не выцветшие, как у меня, огромные, на пол-лица, волосы густые, пышные, да еще вьются, щеки розовые, как у девочки…» И до сих пор у мамы какие-то таинственные звонки и неожиданные, загадочные командировки — у школьной-то учительницы! — а на дни рождения — шквал поздравлений, море цветов, полон дом друзей и подруг. И еще есть Леша — постоянный, верный возлюбленный.
А у Лены нет никого, кроме Тани. И еще была поездка в Одессу, всем классом. Море, солнце, каждый камень — история. Но когда Лену спросили, что произвело самое сильное впечатление, она, не задумываясь, ответила:
— Димка.
— Он вредный, — скривила губы Таня.
— Очень даже полезный, — возразила Лена.
Как-то так получилось, что всю одесскую их неделю, с самого поезда, Димка все время был рядом. Стоял у окна и смешил Лену, когда стремительно неслись они к морю, рассказывал всякие одесские байки, цитировал Ильфа, говорил о трагической судьбе Бабеля. Раскосые, черные, как антрацит, глаза смотрели вдаль, на проносившиеся назад огни. Дима словно не видел Лены, но говорил только с ней. Таня, не привыкшая оставаться в тени, быстро соскучилась и ушла, а они так и простояли у окна до рассвета. Ни Диме, ни Лене совершенно не хотелось спать.
— Откуда у тебя такие глаза, Дим-Димыч? — спросила Лена, когда розовая полоска рассвета уже коснулась неба и оно посветлело и зарумянилось. — Наследие татаро-монгольского ига?
— Не только. — Дима по-прежнему смотрел в окно, лица его не было видно. — Рассказать?
— Расскажи, — почему-то оробела Лена. Как-то ей стало не по себе. Дима откашлялся, помолчал, заговорил тихо и медленно.
— Моя родная бабушка жила с детьми в селе под Алуштой. Их было пятеро — у татар всегда много детей. Моему отцу едва исполнился год; дедушка воевал, но после ранения его отпустили на неделю домой. Потом он погиб под Ленинградом… В сорок четвертом, ну знаешь, нагрянули энкавэдэшники — два часа на сборы, двадцать килограммов багажа — с собой… Крик, плач, пыль — грузовики кольцом окружили деревню, чтобы никто не ушел в горы. Русских тоже выгнали из домов, уж не знаю зачем. Бабушка увидела Таю, соседку, показывает ей отца, плачет: такого маленького точно не довезет. А грузовики уже трогаются. Тая подбежала к борту, машет руками — бросай, поймаю! Крикнуть боится. Ну бабушка отца и бросила. Соседка поймала, прижала к плечу, чтобы лица не было видно, и — быстро-быстро — в самую гущу толпы. Говорила потом, что один солдат — там, на грузовике, все видел, но отвернулся, шума не поднял и грузовик не остановил. Так Таисия Михайловна папу и вырастила, умудрилась записать русским, а я ничего до самой ее смерти не знал, называл бабушкой. Она меня очень любила. — Голос у Димы дрогнул. — Пошли-ка спать.
Мама очень боялась, что вселят их в однокомнатную как существ однополых (жуткое, что ни говори, слово, вот уж действительно «новояз»), но отец, покидая в свое время жену с ребенком, по какому-то наитию, а может, на всякий случай взял — и не выписался. Так что пришлось властям оторвать от сердца квартиру двухкомнатную, но зато — словно в отместку — за Москвой, в Новопеределкино.
По ту сторону железной дороги, куда сразу отправилась на экскурсию Лена, был хвойный высокий лес, а в нем просторные дачи писателей, был Дом творчества, с колоннами и балюстрадой, пустая, за высоким забором вилла вдовы Фернана Леже — подарок советской власти за картины мужа, переданные Пушкинскому музею. На заборе красной масляной краской вызывающе горела начертанная местными мальчишками надпись: «Мир — хижинам, война — дворцам!»

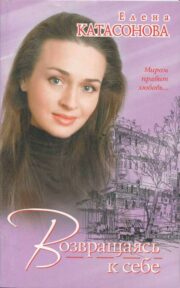
"Возвращаясь к себе" отзывы
Отзывы читателей о книге "Возвращаясь к себе". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Возвращаясь к себе" друзьям в соцсетях.