— На даче.
— Здорово, — с облегчением вздохнул Дима и неожиданно разъярился. — У всех все на дачах! А мои торчат в Москве как пришитые!
— У них сын поступает. Небось волнуются.
«Ах да, он ведь не знает…» — вспомнил Дима.
— Дашь слово, что не протреплешься?
— Кому?
— Никому.
— Чтоб меня съели! — Такая была клятва у Кости. — А что, мы так и будем трепаться по телефону? Давай приезжай.
— Еду.
— Ты что, рехнулся?
Костя, взмахивая тощими руками, бегает по комнате. Длинные патлы стянуты на затылке грязноватым шнурком болотного цвета, рубаха завязана двойным узлом на загорелом пузе, резиновые шлепки, оправдывая свое название, сочно шлепают по полу.
— Я же тебе объясняю…
— Нет, скажи: ты рехнулся? — Сунув руки в карманы тесных, линялых, длиною в трусики шорт, Костя резко останавливается, теснит друга в угол. — Родители знают?
— Пока нет.
— Пока! — Костя срывает с себя очки, бросает, рискуя остаться без оных, на стол, но привыкшие ко всему стекляшки пока еще держатся, массирует пальцами переносицу. — Ты им, значит, врешь?
— Ну да… А то мать расстроится.
— Она все равно узнает.
— Зато не сразу.
— Какая разница?
— Какая-то все-таки есть.
— Нет, ты, ей-богу, рехнулся!
— Но ты же меня не слушаешь! — Обогнув Костю, начинает шагать по комнате теперь уже Дима. — Я сам, понимаешь, сам понял, что никакой я, к чертовой матери, не поэт, что стихи мои — не стихи.
— А что?
— Не знаю. Не перебивай, сам собьюсь. Понял, что ни фига я не знаю о жизни, я ее пока не почувствовал и вообще запутался. Хочется уехать подальше и все обдумать. Может быть, тогда что-нибудь и напишется.
— А ты, случайно, не от Лены своей бежишь? — неожиданно спрашивает Костя.
«Своей»… Как здорово, что кто-то еще так считает…
Вопрос застает Диму врасплох. Он круто поворачивается к Косте.
— Откуда ты знаешь про Лену?
— Настя сказала. Она у меня — агент ЦРУ.
Дима бросается к Косте, сжимает его узкие плечи.
— Что она сказала? Что? Говори!
— Да не тряси ты меня, как грушу, — морщится Костя, освобождаясь от Диминой железной хватки. — Классно вас, видать, тренирует этот ваш офицер…
— Прости, я нечаянно. — Дима умоляюще смотрит на Костю. — Ну, ну…
— Что «ну»? — сердится Костя. Жаль Димку, вот он и сердится. — Вроде спутался ты с какой-то девчонкой, а Лене твоей позвонили.
— Кто? — еле шевеля губами, зачем-то спрашивает Дима.
— Какая разница? — морщится Костя. — Всегда найдутся добрые люди… Какая-то, что ли, твоя одноклассница.
Ну вот и все. Больше надеяться не на что. Дима опускается на диван; силы покидают его.
— Я так и знал, — бормочет он, качая головой, как болванчик. — Чувствовал… А ты спрашиваешь, зачем уезжаю.
— Может, лучше объясниться? — осторожно предлагает Костя.
— Что ты! — Дима смотрит на него со страхом. — Разве такое прощают?
— Прощают и не такое, — философски замечает Костя. — Извини, конечно, не хочешь — не отвечай: а с той ты встречаешься?
Глаза побитой собаки жалобно смотрят на Костю.
— Да…
— Тогда я вообще ничего не понимаю, — тоже плюхается на диван Костя. — Ты кого из них любишь?
— Татьяну — точно нет.
Имя дается с трудом: тяжело произносить его Диме.
— А Лену?
— О ней я все время думаю. Даже видел во сне. Но понимаешь…
— Ага, — угадывает Костя. — Я помню, ты говорил. К Лене ты боишься приблизиться, а тут все о’кей.
Из душевной деликатности Костя не называет имени Тани, и Дима так ему благодарен!
— Как я ее теперь брошу? — невнятно бормочет Дима. — Это ведь непорядочно. Куда мне деваться?
— Ясно, некуда, — посмеивается Костя. — Исключительно в армию.
Он все еще надеется, что бедолага опомнится, но Дима принимает иронические слова всерьез.
— Наконец-то ты понял! — горячо восклицает он и хватает всепонимающего друга за руку. — Там, вдали, я во всем разберусь!
— «Зачем ума искать и ездить так далеко?» — насмешливо цитирует Костя Чацкого, но Дима в интеллектуальную игру ума не врубается.
— Расскажи мне про Лену, — жалобно просит он.
— Что?
— Все, что знаешь от своего агента, от Насти. Очень тебя прошу!
— Ну-у-у, — вспоминает Костя. — Ты же знаешь Настю: особенно болтать не любит. Сказала про звонок твоей одноклассницы, сказала «дурак твой Димка» и тему закрыла.
Дурак… Да, конечно…
Но этот костер в лесу, запах ландышей, таинственная темень палатки, ожог нестерпимой близости, гордость — он стал мужчиной, — страхи, оставшиеся навсегда позади… Как оторваться от первой в твоей жизни женщины, которую, как назло, не любишь? Нет сил, невозможно. Вот разве уехать… Как объяснить это Косте? И стыдно, и страшно.
— А иняз? — вспоминает Дима.
— Что — иняз?
— Она, кажется, хотела туда поступать.
— Кто?
— Да Лена же, кто еще?
Никак не возьмет в толк умный Костя, что говорить Дима может только о Лене.
— В инязе с нее, представь себе, потребовали спонсорский взнос, — оживляется Костя: вот о чем еще рассказала Настя.
— Какой такой взнос? — не понимает Дима.
— Говорю же, спонсорский.
— А она разве спонсор?
Костя смеется, хлопает себя по коленам.
— Ты, я смотрю, совсем жизни не знаешь, — отсмеявшись, говорит он. — Взятки теперь так называются. Мои как раз вчера возмущались: у соседки за внука спонсорский взнос потребовали.
— В иняз?
— В детский сад! Чтобы взяли пацана в сентябре. Соседка еще молодая, работает, Алешкины родители — тоже. Сколько могли, крутились: подменяли друг друга. Дотянули до пяти лет, попробовали с садиком. А им — гони монету, иначе — нет места.
— И что?
— Заплатили, куда деваться?
— А Лена?
— А Лена твоя возмутилась: «Ведь я все сдала на пятерки!»
— И что?
— Ничего. Врезали за английский четверку, и все дела: недобор одного балла.
— За английский? — ахнул Дима. — Да она его даже преподает! Как они умудрились ее засыпать?
— Они и не засыпали. Сказали про взнос — ах нет? — и поставили не «отлично», а «хорошо».
Дима уставился в пол невидящим взглядом. Бедная Ленча! Как она, наверное, расстроилась, может быть, даже плакала, и никого не было рядом. Нет, конечно, кто-то наверняка был — мать, Настя, но он-то, он… Дима сжал кулаки — надавать бы этим гадам по морде!
— Эй, друг, ты меня слышишь? — Костя хлопнул его по спине. — Очнись, салага! Она поступает в какой-то платный вуз — по истории культур, что ли…
— Но если в платный, — вышел из оцепенения Дима, — то могла бы…
— А вот не могла! — торжествующе воскликнул Костя. — Не захотела! И правильно сделала. Если все будем платить, так со всех будут драть — и чем дальше, тем больше. Молодец твоя Ленча!
Опять «твоя», все время «твоя». И больно, и счастливо это слышать.
— А почему «салага»? — с некоторым запозданием спросил Дима. — Почему ты меня так назвал?
— Идешь в армию — привыкай, — ответил бессердечный Костя. — Там много всего… «Осенний марафон» помнишь? «Андрей, много новых слов…»
И друзья засмеялись.
Дима вспомнил их разговор, усмехнулся. Ошибся Костик, ошибся: никто никого здесь салагой не называл. И дедовщины в их части не было. Может, потому, что приписаны они к флоту, хотя служат на твердой земле, бывая, правда, на кораблях, а на флоте от века другие традиции и не забыто еще понятие чести. А может, потому, что москвичей здесь довольно много — знания точных наук оказались необходимы, и многому учат дальше, особенно по радиолокации, — держатся москвичи вместе, и не один Дима силен в джиу-джитсу, в чем «деды» не без некоторой оторопи почти сразу и убедились.
— Мы думали, москвичи — те еще хлюпики, а вы — ничего…
Тем и кончилась «проверка на вшивость», которую и столкновением-то назвать было бы затруднительно.
Сегодня вечером, когда его сменят, он снова напишет Лене, и это будет наградой за все, щедрым подарком судьбы: подумать только, она ему отвечает! Его письма длинные, а ее короткие, он пишет о своих мыслях и чувствах, а она о делах и упорно молчит, когда задает он самые главные для него вопросы. Ну и пусть! Лишь бы раз в месяц он получал ее письма.
Дорогая Леночка, — писал он в самом первом письме. — Называю тебя так и боюсь: имею ли я право даже не писать, а считать тебя дорогим мне человеком? Но именно так я чувствую, и разве для этого какие-то нужны права?
Можно, я не буду описывать свою жизнь? Вдруг тебе это совершенно неинтересно, вдруг ты порвешь мое письмо, не читая, вдруг Настя тебе его вовсе не передаст? Я ведь пошлю письмо на адрес Кости, он отдаст его Насте, а уж она — тебе. Вот каким запутанным путем оно до тебя доберется. Я уж не говорю о расстоянии, разделяющем нас.
Огромная, что ни говори, наша с тобой страна, хоть и откусаны от нее там и сям тоже не самые маленькие куски. Но когда шел, погромыхивая на стыках, наш эшелон и мелькали леса, леса, леса, становясь все гуще, темнее и выше, а потом понеслось назад белое, безжизненное пространство, я впервые понял это по-настоящему. Даже не понял, почувствовал! Учили-учили нас географии, а ни черта мы толком не представляли. Действительно, лучше один раз увидеть…
Помнишь, как мы ходили на лыжах? Был март, яркое солнце, и ты позволила себя поцеловать. Летели от поезда назад снега, сам поезд, казалось, летел по снегу, а я вспоминал. Как я был счастлив тогда, ты даже не представляешь! Помнишь, я сказал тебе, что ты мое «alter ego», ты удивилась — «Разве ты знаешь латынь?» — и, гордясь собой, я скромно ответил: «На уровне присказок — да».

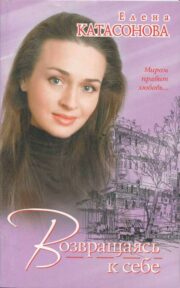
"Возвращаясь к себе" отзывы
Отзывы читателей о книге "Возвращаясь к себе". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Возвращаясь к себе" друзьям в соцсетях.