Я последовал за ней в кухню и начал осматривать полки, как бы намереваясь найти где-нибудь за баночкой кетчупа чашку, наполненную пулями калибра 5,6. Я решил, что для человека, находящегося на грани нищеты, Бонни слишком много тратит на горчицу: горчица медовая, эстрагоновая, перечная. Я обернулся к Бонни. Может, рискнуть и сострить насчет горчицы, разрядив обстановку? Но она стояла ко мне спиной и негромко разговаривала по телефону.
Я нашел банку с поп-корном и сильно встряхнул ее. Она загремела, и я понял, что похож на идиота из латиноамериканского оркестра, играющего на маракасах. Я жаждал внимания. Может, если она признает, что я жив, я и вправду оживу. Мне было так хреново.
Молчи, грусть, молчи, сказал я себе. Чары рассеялись. Смейся, паяц. Но я все не мог успокоиться. Мне хотелось как-то ее расшевелить.
С глубокомысленным видом я просмотрел ее бумажник. Мерзавец. Наглец. Злонамеренное нарушение права на неприкосновенность личности. Я прощупал каждый ключик, разгладил пару смятых салфеток, изнюхал чек из супермаркета. Я не спеша вытащил из ее кошелька деньги — семнадцать долларов и сорок четыре цента — и разложил их на столе, а также водительские права, кредитную карточку «Виза», читательский билет и абонемент в видеосалон. И фотокарточки: ее отец в клетчатой ковбойке, победно поднявший над головой пойманную форель. Отец с матерью — оба высокие и широкоплечие, как Бонни, — при полном параде, как на свадьбу, улыбающиеся, но как-то неестественно, напряженно. Понятно, что они с удовольствием снова нацепили бы свои ковбойки. Братья и невестки на лыжах. Племянницы верхом на лошадях. Племянники с собаками. И на всех бернстайновских фото на заднем плане виднелись горы.
Я ждал, пока она хоть как-нибудь отреагирует: подбежит, оттолкнет меня, закричит что-нибудь вроде «Я тебя ненавижу!». Ни фига. Тогда я пошел ва-банк — открыл красную косметичку и вытащил пару тампонов «Тампакс». Я посмотрел каждый из них на просвет, как будто у них внутри был взрыватель вместо веревочки. Бесполезно — ноль эмоций. Может, стоит ее поддеть? Сказать, что, мол, у тебя все еще не кончились менструации? А потом отказаться от своих слов, если ее адвокат прицепится и заявит, что я ее оскорбил. Но я промолчал. Рядом стоял коротышка следователь по кличке Ляжки, а я не хотел, чтобы он вообразил, будто температура моего поведения отклоняется от отметки «ноль».
Бонни повесила трубку. Я снова занялся ее бумажником. Дно ее кошелька было испачкано каким-то красным порошком — ясно было, что это румяна, которые женщины наносят на лицо при помощи больших пушистых кисточек. Но я выпендрился, ссыпав горстку этих румян в пластиковый пакет, как будто это была новая смертоносная модификация кокаина. Она не сделала никаких злобных замечаний. Она просто вышла из комнаты, зажав в руке ордер на обыск. А я остался стоять — как полный идиот, беспомощно сочувствуя ей, провожая взглядом ее бирюзовую задницу, пока она не скрылась в холле.
Я почувствовал себя как брошенный муж. Я рухнул на тот же самый стул, на котором в первый свой визит сидел и пил кофе. В руках у меня все еще был ее бумажник.
Минут через десять, закончив с кухней и не найдя даже дырки от бублика, я отправился на поиски Бонни. Я обнаружил ее сидящей на кирпичном выступе перед камином. Рядом с ней лежал ордер на обыск. Она обхватила себя за плечи, будто бы ожидала, когда же дровишки разгорятся пожарче и согреют ее. Понятно, что никакого огня там и в помине не было. На улице было уже около двадцати градусов. Синева неба резала глаза — блистательное утро в самом конце августа. Солнце вливалось в окно гостиной, покрывая лоскутами света дремлющую Муз и темный дощатый пол рядом с ней.
Бонни сидела, опустив голову, и не заметила, как в комнату забрел Ляжки и вручил мне тяжелую хозяйственную сумку. А поскольку до сих пор ему посчастливилось найти только полусжеванную сырую косточку Муз под диваном, он явно томился желанием отыскать хоть какое-нибудь весомое доказательство виновности Бонни. Я вывалил содержимое хозяйственной сумки на журнальный столик. Бонни посмотрела на меня. В сумке оказалось две нераспечатанных коробки: кофейная ручная мельница и дорогая машинка для варки экспрессо-капучино. На дне сумки затерялся чек об уплате по карточке «Америкен экспресс»: за все эти предметы уплатил Сай Спенсер, владелец карточки с 1960 года.
Я подошел к Бонни, плюхнулся рядом с ордером на обыск и потряс чеком перед ее носом.
— Выходит, Сай не прочь был выпить чашечку кофе после этого? — полюбопытствовал я. — Или до этого? Некоторым мужикам приходится как-то себя стимулировать.
Она не ответила, но я и не ожидал ответа. Я же для нее не существовал. К тому же Гидеон наверняка велел ей ничего не говорить, а она восприняла его буквально.
— Ваш адвокат появится здесь? — спросил я.
Она взяла ордер. Замешкалась, размышляя, куда бы его положить. Карманов у нее ни в шортах, ни в футболке не оказалось, поэтому она просто держала ордер в руке. Я решил отвлечься, чтобы получше ее разглядеть. Ее футболка была, наверное, с какого-то феминистского кинофестиваля. Через всю грудь пролегала надпись: «Женщины снимают кино» — красные, зеленые, желтые, голубые буквы.
Я накрыл чеком ордер, который она держала, и указал на имя Сая.
— Триста пятьдесят пять долларов за чашечку кофе, — сказал я.
Где-то в глубине комнаты хрюкнул Ляжки: по-моему, он вообразил, что именно таким образом смеются мужественные детективы. Бонни ребром ладони смахнула чек. Он плавно скользнул на пол.
Было очень тихо. Только посапывала собака и где-то наверху посвистывали брюки Робби. Мне хотелось, чтобы те деньги в сапоге и опись дома стали его находкой. Я сказал ему: я пока побуду внизу, присмотри за ней.
А она никуда не собиралась, и я оказался связан по рукам и ногам. Я просто сидел тут, рядом с ней. Мы были похожи на несчастную супружескую пару, ожидающую какого-нибудь печального известия — вроде диагноза онколога или расторжения брака. Я украдкой поглядывал на нее: она обычно носила волосы распущенными, зачесав их за уши, или собирала их в конский хвост. На этот раз она заплела их в косу. Я с трудом удержался, чтобы не погладить пальцем каждое из блестящих переплетений косы. Я сказал бы ей: все будет хорошо.
Но сказал я ей вот что:
— А куда вы спрятали винтовку? — Она не шелохнулась. — Бонни, с каждой минутой у вас все меньше и меньше шансов исправить положение. Вы плохо обходитесь с нами, а мы плохо обойдемся с вами.
И в этот момент в комнату вплыл Гидеон Фридман. Ниндзя-адвокат, в мешковатых слаксах, черном свитере, волосы гладко зачесаны назад. Я встал:
— А-а, советник Фридман, — протянул я, — рад вас видеть.
Он прошел мимо меня и навис над Бонни.
— Надеюсь, ты не разговаривала с ним? — спросил он. — Вообще не разговаривала? — Она покачала головой. — Молодец.
Он взял ордер на обыск и изучил его. Убедился, что все оформлено как положено. Хотел забрать его, но у него как назло тоже не оказалось карманов, и он просто зажал ордер в руке, поднял Бонни и повел ее в кухню.
Кажется, они тихо о чем-то беседовали. Мне не удалось расслышать ни слова, даже обрывков разговора. Я подошел к книжным полкам. В основном это были книги в мягких обложках: сотни романов и повестей. Много книг по кино — биографии актеров и режиссеров. «Настольная книга кинематографиста» и «Кинофарс», книги о природе — «Цветы побережья», «Путешествия по Лонг-Айлэнду». Никаких книжек по сексу, спрятанных за книги типа «Птицы Америки» — ни «Мемуаров викторианской проститутки»«, ни «Как перестать быть Угодливой Давалкой и вынудить его жениться на тебе», словом, ничего из арсенала книг, которые обычно встречаются у одиноких баб.
Робби ссыпался вниз по лестнице. Он был в бежевых мокасинах с массивными черными каблуками, подбитыми металлическими подковами. Он ухмылялся, размахивая пластиковым пакетом для вещдоков, в котором лежал рулончик денег из того самого сапога. Я подошел к нему.
— Восемьсот восемьдесят! — провозгласил он.
— В десяти- или двадцатидолларовых? — я старательно изображал изумление и заинтересованность. — Как из банкомета?
— Так точно.
— Больше ничего?
— Да нет как будто, — Робби даже как-то расстроился. Он, наверное, рассчитывал отыскать еще дымящуюся винтовку.
— Никакого вибратора на прикроватной тумбочке? — Робби покачал головой. — Никаких любопытных документов?
— Ничего.
Вот, дьявол! Надо было сначала самому быстренько все проглядеть и найти эту опись. Если только она ее не выбросила.
— А в кабинете все завалено рукописями сценариев, — сообщил он. — В папке — письма с отказами. Но, знаешь, и это уже много! Эти деньги — это хоть какая-то зацепка. А получим пробы крови — и готово.
— А от Сая нет письма с отказом?
— Нет. А он нам и ни к чему. Где она?
— В кухне, с адвокатом.
— Как думаешь, сейчас ей это впаять? — Он был похож на истекающего слюной добермана-ищейку: само нетерпение.
— Ага, — кивнул я. — Чтобы уж сразу с этим покончить.
У меня спирало дыхание. Я пытался восстановить дыхание, но не мог.
Мы вышли в кухню. Робби помахал пакетиком с деньгами перед носом Бонни.
— Восемьсот восемьдесят долларов в двадцатидолларовых купюрах, — объявил он.
— Если у вас есть какие-нибудь соображения, будьте добры, обращайтесь ко мне, — заметил Гидеон.
— Ах, простите, — дурашливо спохватился Робби и вручил Гидеону конверт с едкой усмешечкой. — Мы нашли это запрятанным в сапог вашей клиентки. Хотелось бы знать всего лишь, откуда эти деньги. Может, она скажет нам…
— Э-э, — начала было Бонни, — это…

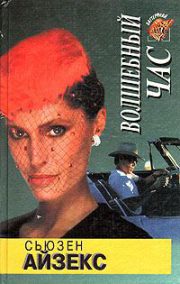
"Волшебный час" отзывы
Отзывы читателей о книге "Волшебный час". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Волшебный час" друзьям в соцсетях.