В люминесцентном освещении я заметил, что кожа вокруг его глаз блестела, как у енота. Сперва я подумал, что это проделки света. Потом понял, что это крем.
— Как же вы узнали, что Сай недоволен игрой Линдси?
— Значит, так, однажды, с неделю назад, мы задержались на площадке допоздна. И на просмотр почти никто не явился. Большинство, включая Сантану, уже смылись. Сорвались с места, как только выключили свет. Я вроде как задержался, хотел поймать Сая и о чем-то с ним переговорить.
— О чем?
— Забыл. Ничего особенного. В общем, я услышал, что Сай кого-то распекает. Не громко и даже как-то не сердито, что лишний раз доказывает его сдержанность. Но видели бы вы Линдси на экране! Она была похожа на грудастую Барби, ни проблеска жизни. Как я уже сказал, Сай держался более чем сдержанно, он просто высмеял этот эпизод. Он говорил о том, что нанять специалиста по спецэффектам, чтобы сделать молнию, обойдется нам в целое состояние, и так ли уж нам необходима эта молния. Только все загомонили про эту молнию, как он засмеялся и сказал, что для фильма было бы ужасно здорово, если бы молния ударила прямиком в Линдси. Потом он добавил: «Шутка». Но, разумеется, все знали, что он имел в виду.
— А что он имел в виду?
— Насчет того, что с ней бы на самом деле что-нибудь случилось? Обычные вещи, которые говорит тот, у кого деньги, — о том, кто эти деньги гробит: если ударит молния, гаранту фильма, страховой компании, придется возместить убыток. И тогда все начнется заново, но уже с другой актрисой. Сай пытался обратить все в шутку, но подтекст был такой: черт с ним, с этим дерьмом, о том, как два сердца бьются в такт. На самом деле он мечтал избавиться от нее ко всем чертям.
Николя Монтелеоне выдержал паузу. Он выглядел так, будто обдумывал что-то очень сложное. Вдохнул. Выдохнул. Снова вдохнул и выдал наконец:
— Могу ли я называть вас просто Стив?
Я, само собой, актером не был, но просиял наиобаятельнейшей улыбкой, на какую только был способен:
— Без проблем.
Он заулыбался мне в ответ.
— А вы можете называть меня просто Ник. То, что я сейчас скажу, Стив, останется между нами. Это касается желания Сая избавиться от Линдси. Я подозреваю, что на прошлой неделе Сай не случайно переносил все свои встречи за пределы съемочной площадки. — У Ника были очень густые брови. Он их многозначительно поднял. — Вы понимаете, о чем я?
— У него был кто-то еще?
— Не уверен. Но, в общем, было довольно явно, что Линдси слишком уж старается ему угодить, а он совершенно не желает, чтобы ему угождали. Что я имею в виду: она, как обычно, обнимала его, а он обнимал ее… Но при том, что их жесты были вполне правильными, я кое-что заметил. Черт побери, недаром же я актер! Думаете, почему мне так много платят? Потому что у меня интуиция. Я знаком с языком жестов, и, если говорить о Сае, его жесты, все его тело как бы говорило: «Дорогая, у меня сегодня так болит голова…»
— Может, он просто был огорчен тем, как она играет?
— Возможно. Но в течение первых двух недель он ходил вокруг нее кругами и целый день фыркал. Он уже тогда знал, что это не самая удачная ее роль, но он так озверел по ее поводу, что не способен был раздражаться. То есть, вы бы его видели, это была такая раскаленность, но в консервированном виде. И вдруг он смотрит на часы. И ровно в одиннадцать исчезает.
— До вас доходили какие-либо разговоры: слухи, например, о том, о чем мы сейчас говорим?
— Нет. Это всего лишь мои предположения.
Николя Всемилостивый встал, расправил плечи и — ки-я! — шарахнул кулаком по стене. Потом сел и стал усердно притворяться, что у него совершенно не болят костяшки пальцев.
— Послушайте, Стив, я могу быть с вами откровенен?
— Рискните. — Я наклонился вперед и легонько, по-приятельски шлепнул его по плечу. — Конечно, можете.
— Вам знакомо имя Кэтрин Пурель?
— Актриса? Да, разумеется.
— Это не для разглашения. У меня с ней кое-что было, когда мы только начинали сниматься. Она тогда жила с одним типом из кинопрофсоюза. Точнее, со своим агентом. Фактически была за ним замужем. Короче, у нас с ней случилась безумная любовь, потом безумное расставание, безумная ненависть. А прошлой зимой мы столкнулись в Вейле. У нее новый муж — архитектор. Новый агент. Но знаете, как это бывает, все проходит. Мы перестали совершать глупости и стали… Думаю, это называется «друзьями».
Я все понял: он пытался объяснить мне, что там, в Вейле, пока муж ошивался где-то по делам, Ник попросту трахнул Кэтрин Пурель. Я постарался приободрить Ника тем, что, я надеюсь, выглядело как понимающая улыбка.
— Так вот, во вторник вечером она мне позвонила. Из Лос-Анджелеса. Она интересовалась, как там с фильмом. Сперва я решил, что она прослышала, как паршиво Линдси играет, и просто хотела поиздеваться. Она ненавидитЛиндси и обожаетиздеваться. Когда-то Кэт играла вместе с Линдси. А все, кто имел дело с мисс Киф, терпеть ее не могут. Я подумал «отлично», и мы посплетничали про Линдси и Сантану, и как он оказался ее первым латиноамериканцем-некоммунистом. Ну, и как Линдси всегда закрывает глаза, когда Сантана говорит, будто бы концентрируясь на Голосе Всевышнего, и как всегда хочется как следует ей вмазать. В общем, мы болтали долго-долго, но было во всем этом что-то недосказанное. Я это чувствую. Видите ли, Стив, я ведь этим и зарабатываю себе на жизнь, — тем, что живу ощущениями и интуицией.
— Безусловно, — поддакнул я, чтобы его раззадорить.
— Так вот, я ей сказал: «Давай-ка, Кэт, выкладывай все начистоту. Что ты слышала?» Она потребовала поклясться, что я ни единой душе не обмолвлюсь, и сообщила, что Сай в то утро ей звонил.
— И?
— Он спросил ее, не была ли бы она так любезна и не просмотрела бы быстренько сценарий «Звездной ночи». Под большимсекретом. Вы понимаете, о чем я?
— Он хотел, чтобы она проглядела роль Линдси?
— В точку! — сказал Ник. — Думаю, Сай уже догадался, что его ожидает потеря ценой в двадцать миллионов. А еще я думаю, что он отыскал кое-кого поблондинистееили погрудастее. Линдси его упустила. Я полагаю, Стив, Сай вполне созрел для того, чтобы убрать Линдси.
Когда Линн решилась связать свою судьбу с моей, она знала, что у нас будет много общего. Обоюдное стремление к любви, взаимопониманию, семье, плюс — поскольку ей приходилось пару раз в месяц взвешивать по крайней мере одно предложение руки и сердца — иметь хороший шанс убедить свое зловредное семейство в собственной независимости. Но, решившись связаться со мной, она тем самым сознательно и добровольно приобрела полный джентльменский набор: бывшего алкоголика (не говоря уж ничего о моих пристрастиях в прошлом к гашишу, барбитуратам и героину), бывшего блядуна, старого пердуна, трудоголика, непоследовательного даже в своем стремлении совершать утренние пробежки. Она приняла меня всего, без остатка, без лишних вопросов.
Была ли она безупречна? Нет. Она была жуткой чистюлей, из тех, кто в школе слыл счастливым обладателем Самого Аккуратненького Блокнотика и Самого Красивого Почерка. Не сказать, чтобы я сам был не аккуратен, но до нее мне было далеко. Ей приходилось сдерживаться, чтобы не застилать постель каждый раз, когда я вставал с постели сбегать в туалет. Она каждый божий вечер проверяла, хорошо ли заточены ее карандаши. Если Линн и решалась на безумный поступок и соглашалась искупаться нагишом при лунном свете, то только после того, как завершала подготовку плана уроков, и до того, как начнутся одиннадцатичасовые новости. И все же, как бы я ни потешался на ее счет, где-то в глубине души это меня успокаивало. Я нуждался в упорядоченной жизни, предусматривающей хорошо заточенные карандаши и выключение света сразу же после окончания монолога Джимми Карсона, ведущего вечерних новостей. Все несовершенства Линн в конечном счете меркли и оборачивались достоинствами. Так отчего же я не сходил с ума от счастья? Отчего же я никак не мог заставить себя принять Линн всю целиком, как она приняла меня? Как получилось, что я никак не находил сил сказать себе: да, пусть она чересчур серьезна, но какого черта обращать на это внимание, когда у нее такие волосы и такие ноги? Почему я предавался раздумьям о том, что не воплю от стопроцентного экстаза? Что со мной творилось? У нее была тысяча достоинств. Какого дьявола я зациклился на той единственной мелочи, которой ей не хватало? Какого лешего я все ждал от нее чего-нибудь забавного и необычного?
Штука заключалась даже не в том, что у Линн не было чувства юмора. Оно у нее было. Но это было расхожее чувство юмора. Она с готовностью улыбалась на мои попытки ее рассмешить. Она хохотала над комедиями с Эдди Мерфи и фильмами Вуди Аллена, она смеялась над идиотскими анекдотами моего приятеля Марти Маккормака, где героем неизменно был рабби, которому в конце концов, само собой, доставалось на орехи. Она тактично реагировала на все хохмы своих учеников из Духовной Академии, особенно тех, что страдали дефектами речи и слуха.
Чего ей не хватало, так это живости. Я понимал, что с моей стороны нечестно держать камень за пазухой. Это все равно что сказать женщине: я хочу, чтобы ты была ростом метр шестьдесят и сложена, как кирпичная будка, когда она на самом деле высокая и тоненькая.
И все-таки я не мог не вздрогнуть от глубинного ощущения, посетившего меня сутки назад, когда я лежал на одеяле в своем дворике. Что-то среднее между разочарованием и ужасом. Я вообще не знал, что это было, черт подери. Но как бы то ни было, я сидел здесь, сделав перерыв на короткий телефонный звонок, с ногами на «ксерокофейной» машине и усугублял ситуацию, давая ей шанс, которым — я твердо знал — она не сможет воспользоваться.

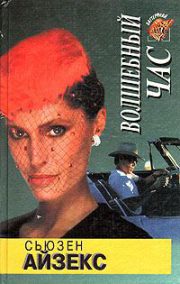
"Волшебный час" отзывы
Отзывы читателей о книге "Волшебный час". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Волшебный час" друзьям в соцсетях.