Кардинал поднял голову и посмотрел на Шарлотту, он думал, что у нее начинается бред и что он будет свидетелем странного феномена галлюцинаций, которого наука до сих пор не в силах разъяснить.
– Я видела воина в латах и со шпагою в руке. Он, взявшись за кисть мантии, остановил человека в красной одежде, и этот человек был заключен в крепость.
Коадъютор горько улыбнулся и опустил голову.
– Верьте беспощадной ненависти ваших врагов. Этот арестант, этот государственный преступник – это были вы, монсеньор.
В эту минуту вошел духовник. Увидев его, Шарлотта Шеврез подала руку Гонди и сказала с кротостью и покорностью:
– Уходите, монсеньор, теперь я принадлежу Богу. Прощайте!
Коадъютор ушел, тяжелый камень давил ему сердце, и мрачное предчувствие терзало его всеми муками. Ему казалось, что совершается разрушение всего, что до сей поры поддерживало его пламенное воображение и предприимчивый характер, ему казалось, что руки его вдруг высохли, как у старика, что на плечи давит тяжелый, свинцовый плащ, называемый заточением…
Глава 24. Почести
Герцогиня Монбазон не могла вынести своего позора. Как безумная, по возвращении в Париж, бросалась из Люксембургского замка в Тюильри, из Тюильри в Вандомский дворец. И хорошо, что Бофор на ту пору сидел в крепости, а то несдобровать бы ему: она непременно заколола бы его своей рукой. Терзаемая бешенством, ревностью и стыдом, она заперлась наконец в своем доме, и ее бессильная жажда мести поразила ее прямо в сердце. На другое утро горничные вошли к ней в спальню и увидели, что она неподвижно лежит в постели. Она умерла.
Ее погребение совершилось со всевозможной пышностью и с почестями, приличествующими вдове первого королевского сановника; весь двор присутствовал на ее похоронах. Во время погребальной церемонии два человека, притаившись за большими колоннами в церкви Сен-Тома, не спускали глаз с царедворца, которому королева поручила вместо себя присутствовать на погребении герцогини. Этот царедворец, поощренный королевским доверием, был герцог де Бар. Конечно, он и не подозревал, что является предметом наблюдений тех двух человек, а иначе он не был бы так торжественно спокоен. По окончании церемонии ближайшие родственники умершей провожали герцога де Бара до его дома.
– Опять неудача! – сказал Мансо, один из грозно следивших за герцогом людей.
– Он не замедлит сбросить траурное платье и опять выйдет со двора.
– Уверен ли ты в том, Ле Мофф?
– Совершенно. А тут и ночь подоспеет, – подтвердил бывший разбойник.
– А мне хотелось бы, чтобы яркое солнце освещало его казнь!
– Увы! Теперь у нас не безначалие, а законный король!
Решившись ждать, они вошли в харчевню у самого дома Монбазона и сели у окна, не спуская глаз с улицы. Мало-помалу наступала темнота ночная. Предсказание Ле Моффа не замедлило осуществиться. Совсем уже смерклось, когда дверь у герцогского подъезда отворилась, и вышел сам герцог. Он шел легко, как человек, уверенный в своем счастливом будущем. В это время небезопасно было ходить по темным улицам; зная это, герцог обнажил шпагу и, закутавшись в плащ, держал шпагу острием вперед.
Но такие предосторожности были слишком недостаточны для такого удальца, каким был наш старый знакомый Ле Мофф. Опередив Мансо, он прямо пошел на герцога. Герцог не оглядывался по той простой причине, что ему не слыхать было приближающихся шагов, и тоже по простой причине – Ле Мофф разулся и шел за ним босиком. От улицы Сен-Тома было недалеко до Лувра, куда направлялся герцог де Бар. Когда он готов был повернуть за угол и думал уже, что теперь не может быть никакой опасности, вдруг Ле Мофф прыгнул на него и повалил на землю. Герцог не имел ни времени, ни возможности сопротивляться, он хотел открыть рот, чтобы звать на помощь, но опытный разбойник успел вовремя всунуть ему в рот орудие, называемое «груша муки», то есть грушевидный кляп.
Мансо проворно подбежал на помощь, платком еще крепче привязал этот кляп. Руки и ноги были связаны веревками. Мансо взвалил герцога себе на плечи и, не обращая внимания на удивление изредка попадавшихся прохожих, бежал во всю прыть по улицам. За ним спешил Ле Мофф. Так они дошли до улицы Потри. Мансо положил свою ношу у стены небольшого дома, как раз напротив своего. Вынув ключ из кармана, синдик вставил его в замок двери этого дома. Отворив дверь, он шел в темноте, как человек, хорошо знакомый с окружающими предметами. Пройдя два этажа, постучал в дверь. Дверь тотчас отворилась; Мансо невольно улыбнулся, увидев толстощекого шарлатана Мондора со свечой в руках.
– Так это вы, любезный сосед, – сказал старый шарлатан.
– Разве вы не ждали меня всю эту неделю?
– Именно сегодня никак не ждал.
– Господин Мондор, позвольте мне кое-что напомнить вам. Ровно неделю тому назад я пришел к вам на площадь Сен-Дени, где вы со своим паяцем Тиртеном продавали свои мази и выкидывали шутовские штуки. С вами была малютка…
– Ваша дочь.
– Я убил Тиртена, который осмелился не отдавать ее мне, но вас я пощадил с тем условием, что вы согласились…
– Помочь делу вашей мести против того человека, который отдал нам это дитя.
– Да. Теперь наступил час мести.
– Что вы говорите?
– Скорее к делу!
– Но как же это?
– Делайте что вам приказывают, остальное вас не касается, старая мокрая курица!
С этими словами Мансо ушел, оставив старика, полоумного от страха, но не дерзавшего противиться его приказаниям. Мансо спустился вниз к Ле Моффу, который крепко держал де Бара. Несчастный герцог был в таком ужасе, что не смел пошевелиться, не смел даже попытаться кричать. Обменявшись несколькими словами, Мансо перешел через улицу и, войдя в свой дом, подошел к постели, где лежал больной Ренэ. Ренэ проснулся и улыбнулся, увидев дядю.
– Вижу, что тебе лучше, друг мой.
– Лучше, дядя.
– Ну, а завтра совсем хорошо будет – сам увидишь.
Ренэ не отвечал, но глубоко вздохнул, на что синдик не обратил внимания и подошел к лестнице.
– Маргарита пошла спать? – спросил он.
– Она и тетушка ушли наверх с полчаса назад.
Мансо вошел в спальню дочери. Маргарита стояла на коленях у колыбели маленькой сестры и молилась. Услышав шаги отца, повернулась и была поражена грозным выражением его лица.
– Маргарита, – сказал он сурово, – ты честная девушка, и Ренэ сказал мне, что, по твоему убеждению, ты не можешь быть его женой, пока этот злодей!..
– О! Батюшка, умоляю тебя – не напоминай мне…
– Я поклялся тебе, Маргарита, что ты будешь отмщена – и сдержал слово.
– Что вы хотите этим сказать?
– Подожди…
Мансо прислушивался к звукам, доносившимся с улицы, вдруг он задрожал и взглянул на дочь.
– Что случилось, батюшка?
На улице послышался слабый стон, Маргарита бросилась к окну.
– Дочь моя, – сказал синдик, схватив ее за руку и крепко удерживая ее, – вооружись мужеством, потому что ты увидишь, как правосудие отца казнит преступника, совершившего самое гнусное насилие.
Раздался свист, и Мансо, выпустив из рук дочь, сказал:
– Отвори окно.
Маргарита машинально повиновалась, вдруг вспыхнул факел и осветил ужасное зрелище. У балкона Мондорова окна качалась веревка, а на веревке в предсмертных судорогах бился человек, который в гостинице «Красная Роза» впервые явился перед Маргаритой. Из груди молодой девушки вырвался придушенный вопль, и факел погас. Маргарита повернулась к отцу, который в это время стоял у колыбели малютки и тихо целовал ее ручки.
– О! Как дорого стоит честь! – тихо сказала она и, едва держась на ногах, поцеловала седые волосы отца, у которого по щекам текли слезы.
Глава 25. Счеты сводить
Коадъютор провел почти всю ночь за письменным столом и только к четырем часам утра бросился в постель. Однако он встал по обыкновению рано, чтобы принять своих клиентов, которые всегда собирались к нему вместе с рассветом. Когда ушли эти посетители, Гонди облачился в великолепный костюм кардинала и сел в карету, которая день и ночь была готова к его услугам. Тогда было девять часов утра. Погода была холодная, Гонди стал поднимать окна в карете, он вздрогнул, увидев человека, в котором узнал лакея, служившего Шарлотте Шеврез.
– Что случилось? – спросил кардинал.
– Его светлость прислал сказать вам, что дочь его скончалась.
Кардинал был поражен, ему хотелось вернуться домой и, запершись в своем кабинете, предаться печали, но множество людей в доме – каноники, аббаты, дворяне, прислуга и нищие со всех сторон смотрели на него: гордость возвратила ему самообладание.
«Надо же когда-нибудь кончить!» – подумал он.
Несмотря на то, что было еще слишком рано для приема у их королевских величеств, кардинал Ретц явился в Луврский дворец. Он зашел к господину Вильроа, чтобы дождаться времени представления. В это время аббат Фукэ, родной брат государственного казначея, преданный душою и телом Мазарини, пошел к королю и уведомил его об этом раннем посещении кардинала Ретца. Король ненавидел коадъютора, приписывая ему все неприятности, которыми было отравлено его детство. Узнав о его прибытии, король пошел к матери, чтобы предупредить ее. Но на лестнице он встретился с коадъютором, который почтительнейше раскланивался перед его величеством.
– Может ли это быть! – воскликнул юный монарх, – вас ли я вижу, монсеньор? Что так рано? Лапорт уверял меня, что видел, как у подъезда промелькнуло красное платье. Я и думал, кто бы это мог быть? Кардинал Мазарини в Бульоне, так какому же монсеньору пришло в голову так рано пожаловать?
– Ваше величество, простите мое усердное желание, – пролепетал Гонди в смущении, – я надеялся, что ее величество удостоит принять дань моего верноподданнического благоговения.
– Дань вашего верноподданнического благоговения? О! Как не принять этого! Моя мать очень заботится о вас и вот уже несколько дней все строит планы, сводит расчеты, из которых могут выйти для нас с вами только счастливые результаты.

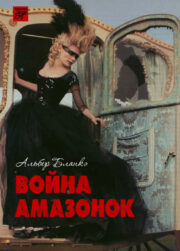
"Война амазонок" отзывы
Отзывы читателей о книге "Война амазонок". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Война амазонок" друзьям в соцсетях.