– Смилуйтесь, смилуйтесь!.. У меня только одно это слово на языке! У меня только одна эта надежда в сердце!
– Встаньте и уходите вон!
– Как, ваше величество, вы произносите мне смертный приговор?
– Вы должны уйти в монастырь и вечным покаянием загладить вашу дерзость и преступление.
– О! Для меня все казни, какие только хотите! Подвергните меня самым жестоким лишениям, прикажите, чтобы в монастыре каждый день бичевали мое тело; прикажите заключить меня в подземную тюрьму без воздуха, без света, без пищи. Я согласна на все, я все приму с благодарностью – но сжальтесь, сжальтесь надо мной и возвратите ему свободу!
– Вы хотите меня обмануть.
– Нет, ваше величество, клянусь вам, я искренно говорю.
– А между тем, подъезжая к Парижу вместе с этим человеком, которого вы называете своим мужем, вы намеревались отправиться к священнику, чтобы освятить законным порядком этот преступный брак?
– Заключите меня сейчас же в монастырь, тогда вы получите уверенность, что мой брак никогда не может быть освящен церковью.
– Слушайте же, я не хочу, чтобы народ и наши враги получили новый повод смеяться над нами. Но если я заставлю вас произнести клятву – заметьте, я это говорю вам в твердой уверенности, что вы непременно сдержите ее – если я потребую от вас эту клятву, дадите вы мне ее?
– Требуйте, ваше величество.
– Помните, что королева Франции не может требовать клятвы от своей первой подданной, чтобы ей было в том отказано.
Принцесса со страхом посмотрела на королеву. Ей показалось, что, если бы в эту минуту своды древнего дворца французских королей обрушились на ее голову, так и тогда ей не было бы так тяжело, как при пытке, которой подвергала ее неумолимая королева.
– Клянитесь именем Христа и вашей честью, клянитесь, что вы отказываетесь быть женой Бофора.
Луиза Орлеанская, стоя на коленях, подняла руку для произнесения клятвы.
– Встаньте, подняв руку, произнесите эту клятву.
Принцесса встала и спросила торопливо:
– И он будет свободен?
– Клянитесь!
Принцесса не колебалась, понимая, что во что бы то ни стало надо внушить к себе доверие. Она подняла обе руки и поклялась.
– Хорошо, – сказала королева с видимым удовольствием и, взяв лист бумаги, набросала на нем несколько строк, которые подала принцессе.
Едва бросив взгляд на написанное, Луиза убежала, позабыв даже поблагодарить королеву, которая подвергала ее гордость такой жестокой пытке.
Все это время коадъютор, предаваясь себялюбивым мечтам, мало тревожился о Шарлотте Шеврез и только по донесению своей полиции узнал о ее смертельной болезни. Как громом поразила эта весть забывчивого честолюбца. Он опустил голову, и, может быть, в первый раз в жизни слезы навернулись на его глазах.
«Она умирает, – подумал он. – Надо мне с ней повидаться. Надо… что, если она умрет? О, какое это будет несчастье для меня!»
И этот человек, казалось, такой закаленный в житейских волнениях, впал в глубокое уныние.
«А что, – думал он, – если это начало конца? Сколько уже предостережений присылалось мне!.. Ехать ли ко двору, бежать ли, пока есть свобода?… Смерть Шарлотты будет для меня предвестием несчастья. Предчувствия!.. Это предвестники несчастья, всегда бывает худо, если их не слушаешь».
Он стал переодеваться. Когда принимал из рук лакея шляпу, увидел в ней записку.
– Ты не видал этой записки? – спросил Гонди, заметив удивление лакея.
– Нет, не видал.
Коадъютор развернул записку, слов в ней было немного:
«Не выходите из дома, или вы погибли».
Он был поражен, однако смертельная болезнь Шарлотты заставила забыть о своей безопасности, и он вышел. Через несколько минут он был уже в ее доме…
Герцог Шеврез, отец Шарлотты и, следовательно, муж бывшей приятельницы королевы, герцогини, столь знаменитой прежними своими любовными интригами, был в это время шестидесятичетырехлетним стариком, но еще бодрым и, несмотря на свою старость, до такой степени развращенным, что у него в Дампьерском замке был целый гарем. В то время как он был в этом замке, с ним сделался апоплексический удар. Тогда, видя себя в крайности, он велел послать карету в Париж за духовником. В этой карете приказано было отвезти в Париж его сильфид, а из Парижа привезти духовника. Но после исповеди и причастия старому герцогу сделалось гораздо лучше. Укрепившись новыми силами, он приказал отвезти аббата в Париж и привезти красавиц назад. Вероятно, в его глазах болезнь дочери не имела большой важности: в ответ на это известие он послал совет позаботиться, прежде всего, о спасении души, уверяя ее своим примером, что, несмотря на приговоры докторов, болезнь часто проходит и без лекарств.
Нельзя сказать, чтобы Шарлотта питала к своему отцу сильное уважение, но она его очень любила и потому, чувствуя приближение смерти, попросила своего духовника съездить за отцом. Достойный священник как с неба упал посреди дампьерских сатурналий и так громко, с такой силой стал произносить приговоры нечестию и разврату, что старый герцог поспешил сесть с ним в карету, подвергаясь опасности целую дорогу слушать его увещания.
Однако прежде него поспел во дворец коадъютор. Сказав свое имя швейцару, посмотревшему на него с удивлением, Гонди направился знакомой ему дорогой. Дойдя до антресоли, он толкнул ногой дверь и пошел по темному коридору, не обратив внимания на то, что хрустальная лампа против обыкновения не была зажжена. В конце коридора была дверь, он вынул ключик из кармана и ощупью вложил в замок, к его великому удивлению, ключ не поворачивался в замке.
«Что бы такое случилось?» – подумал он, приложив ухо к двери.
Холодный пот выступил у него на лбу. Четверть часа он оставался на месте, потом вернулся прежней дорогой. В коридоре он встретил молодую девушку, которая, несмотря на темноту, воскликнула:
– Это вы, монсеньор?
– Я был там, но…
– Ах! Моя бедная госпожа никого видеть не хочет. Она говорит, что для нее все кончено в мире!
– Но что это за болезнь такая внезапная?
– Внезапная болезнь? Ах! Монсеньор, барышня давно уже томилась, только она никогда не жаловалась, в ней было столько мужества, что никто даже не замечал ее страданий. Сегодня двадцать четвертый день, как она слегла и не встает.
Коадъютор сунул кошелек в руку девушки и убежал. Прошел почти месяц, как он не посещал эту женщину, и теперь она умирала в двух шагах от него! Он бежал, и казалось ему, что змея ужалила его в сердце. В ту минуту, когда он покидал дом смерти, карета герцога Шевреза шумно подъезжала к подъезду. Гонди незаметно проскользнул, закрыв лицо плащом. Возвратившись домой, он сел за стол и хотел работать, но работать не смог. Непокорные мысли беспрерывно переносились в темный коридор, а там лежала женщина, которую смерть уже отметила своей холодной и жестокой рукой.
В те времена коадъюторам не ставилось в грех посещать театры, под влиянием эгоистического желания Гонди поехал в комедию. Появление его в ложе произвело радостное впечатление. Граждане, занимавшие партер, приветствовали его такими громкими восклицаниями и рукоплесканиями, что актеры принуждены были остановиться. В это время представляли трагедию Корнеля, и публика, желая оказать почесть любимому коадъютору, потребовала, чтобы актеры снова начали представление. Актеры поспешили исполнить общее желание.
Народная восторженность не знала тогда меры, никогда трагедия великого поэта не собирала такой роскошной дани общих восторгов, как в то время. Коадъютору ничего не оставалось, как встать и поблагодарить публику за неожиданные овации. Между тем вельможи и царедворцы, сидевшие ближе к оркестру, за исключением двух или трех, сочли обязанностью протестовать против этих демонстраций уходом из театра. Тут только партер спохватился, что выражение восторженных чувств могло только повредить тому, кто долго был их идолом. После третьего акта коадъютор удалился.
– К герцогу Шеврезу, – отвечал коадъютор на вопрос лакея, куда он прикажет ехать.
От Пале-Рояля до улицы Сен-Тома не очень далеко, через десять минут карета остановилась у подъезда де-Шевреза. О прибытии Гонди был сделан торжественный доклад. Герцог встретил его на самой нижней ступеньке крыльца. Старик привел кардинала в комнату умирающей и молча показал на нее.
Шарлотта-Мария Шеврез, белая как мрамор, спала тревожным сном, который иногда предшествует вечному сну: ее иссохшие и бледные губы шевелились, из них вырывались отрывистые слова; по ее руке, лежавшей на одеяле, пробегала дрожь. Вдруг она открыла глаза и устремила на Гонди долгий взор, полный тоски, потом протянула ему руку, красоте которой завидовала некогда даже королева Анна Австрийская. Кардинал встал на колени перед кроватью. Старый герцог удалился, оставив их одних.
– Вероятно, вы не знали, что я умираю, – сказала Шарлотта, – вы бы ранее пришли. Не буду говорить вам, какие испытывала я страдания, ваша скорбь доказывает, что вы понимаете это. Между нами не должно быть теперь ни бесполезных укоризн, ни горьких жалоб, зачем отравлять предсмертную минуту воспоминанием прошлого: только мысль о настоящем, только мысль о будущем занимает меня! Настоящее здесь, вот в этой комнате, где горят еще восковые свечи, свидетели отпущения грехов, которое церковь даровала мне; настоящее – это женщина, которая должна умереть, и мужчина, за которого она умирает.
– Шарлотта, сжальтесь…
– Эти два существа встречаются в торжественный час, и между ними не может быть другого чувства, кроме дружбы: одна преданность под влиянием искренней любви должна наполнять последние минуты, которые остаются им в этом мире. Теперь перейдем к будущему, к будущему, которое ускользает от меня и которое вполне вам принадлежит. Теперь слушайте со вниманием, что я вам буду говорить, потому что я видела видение.
Шарлотта остановилась, чтобы отдохнуть.
– Да, – продолжала она, – прошлой ночью я имела видение.

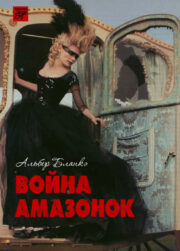
"Война амазонок" отзывы
Отзывы читателей о книге "Война амазонок". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Война амазонок" друзьям в соцсетях.