Несмотря на толковое заявление Сусанны Юрьевны в среде чиновников мнения разделились. Одни верили госпоже Касаткиной, другие, по примеру Высоксы, считали ее умалишенной.
Разногласица дошла до того, что когда половина отделения решила немедленно заключить под стражу подозреваемого Змглода, то другая половина подняла целую бурю. Всегда слышал и знал князь Темнишев, что служба гражданская — дело нелегкое, что уголовные законы — целый лес, что суд и расправу чинить мудрено, но все-таки никогда он не думал, что попадет в такое сугубо трудное положение.
Ему приходилось, как главному начальнику, бороться не с подсудимым или свидетелями, за них или против них, а приходилось воевать с собственными своими подчиненными. И он вскоре увидел ясно; что из его следствия не выйдет ничего.
Решит он, что старый барин Басман-Басанов был когда-то умерщвлен и что виновны его племянница и полурусский человек именем Змглод, то в губернии или столице на основании его следствия все дело будет перевершено, потому что уж очень темно. Если же он теперь постановит заключение, что, несмотря на откровенное признание умалишенной барышни Касаткиной и в силу отрицания всего Змглодом, они нисколько не виновны, что смерть Аникиты Ильича была естественной, то и это заключение властями принято не будет.
— Так ли, сяк ли, — думал и говорил князь, — полная темнота, полная чепуха! И ничего поделать нельзя!..
Между тем если бы честный и добрый человек знал правду, то все бы понял. А правду эту знали два брата Басановы со своими наперсниками. И вместе с тем оба брата, враждовавшие теперь более, чем когда-либо, всячески таились друг от друга.
Все дело заключалось в том, что Олимпий сыпал деньгами, закупая судей, чтобы обвинить Змглода, взяв под стражу и отправить в город, обязав его семейство оставаться в Высоксе впредь до решения дела, но вместе с тем постараться припутать к делу и Ивана Змглода, хотя тот в дни смерти старика Басанова и на свете не существовал.
С другой стороны, Аркадий Дмитриевич при помощи своих двух наперсников занял в Нижнем огромную сумму денег и тоже сыпал тому же отделению, чтобы тетка была признана сумасшедшей, а Змглод был оправдан.
Самый умный из всех Михалис долго не мог догадаться, почему отделение медлит в своих действиях и, несмотря на огромные деньги, которые он от имени Олимпия Дмитриевича уже переплатил, ничего не предпринимает против Змглода.
Наконец, и он догадался… Он разделил мысленно комиссию на две части, чтобы разобраться и узнать, кого закупает Аркадий Дмитриевич. Спрашивать тех из чиновников, которых он одаривал, не вело ни к чему, так как они, принимая благодарность, никогда бы не согласились клеветать на своих товарищей, что они тоже принимают благодарность от младшего брата. Если хитер был Михалис, то он видел, что эти все крючки поистине хитрее чертей.
Однако Михалис все-таки добился своего, убедив Олимпия Дмитриевича скорей достать взаймы крупную сумму денег, так как наличных в коллегии уже не было ни гроша. Он убедил его закупить и тех, кто был за его брата и, следовательно, за Змглода.
И дело увенчалось успехом… Вскоре князь Темнишев со всем своим штатом выехал из Высоксы. Денис Иванович Змглод, взятый под стражу вместе с сыном, не были увезены во Владимир, как того ожидали, а остались в Высоксе в полицейском доме под стражей. Олимпий всячески настаивал, чтобы оба Змглода были увезены в город, и поручил это Михалису. Наперсник обещался всячески стараться, а в тайных своих переговорах с князем Темнишевым и его помощниками всячески сугубо и горячо настаивал, чтобы оба Змглода были оставлены под арестом в Высоксе. Кроме того, он добивался, чтобы Ивану Змглоду было дозволено отлучаться из-под ареста, по разрешению самого князя Темнишева. Сам же он брался за то, что оба заарестованные не убегут.
Если бы переговоры Михалиса с крючками и подьячими мог услышать или узнать Олимпий, то он не только бы изумился, а подумал бы, что Михалис ума лишился. Он даже и не поверил бы собственным ушам. Недаром князь Абашвили, которому Михалис иногда передавал подробности о своих действиях, тоже дивился другу, а иногда тоже таращил глаза и ничего не понимал.
— Христос с тобой! Ни черта не пойму! Говори.
— И нечего тебе понимать! — говорил Михалис, смеясь каким-то зловещим смехом. — Ты обещался быть со мной, помогать мне во всем. Следовательно, и помогай! И придет день, что и на нашей — на моей и на твоей — улице будет праздник! И праздник, друг ты мой, не за горами! Праздник этот будет как раз в день празднества совершеннолетия Аркадия Дмитриевича. Но помни одно, что этот день я, бьющийся как рыба об лед, буду как без рук, буду ни при чем… Вся сила будет в тебе! Будет у тебя дело, прикажу я тебе сделать кое-что, самое что ни на есть на свете простое и самое что ни на есть на свете важное. И вот тогда ты должен мне всей душой помочь. Тоне помочь! Ее спасение, ее счастье устроить! Своего счастия добиться!
— Слышал я это от тебя много раз! — отвечал князь.
— И все то же сказываешь, обещаешь?
— Да. Будь спокоен. Все, что прикажешь, исполню. Хотя бы и трудное, хотя бы и опасное. А ты говоришь, что оно легкое. За Тоню я на смерть пойду.
— Ну, спасибо. Но повторять буду сто раз все то же: будь готов! — со зловещим взглядом, сверкая глазами, говорил Михалис. — Пора нам быть богатыми и счастливыми.
XXVII
Наконец, наступил этот давно ожидаемый день рождения и совершеннолетия.
Празднование было давно подготовлено на все лады и должно было продолжиться три дня… Изобретательный Олимпий напряг все свое воображение, чтобы празднество было блестящим. Михалис помогал ему и придумывал тоже всякое… Так, придумал он между прочим устроить на второй день вечер с ряжеными, как на святках «машкерад». Олимпий делал все, конечно, не для брата, а для себя. Он праздновал свое личное вступление во владение состоянием, хотя пока и вместе с глупым братом.
«Пока!»
Да, эта мысль теперь уже не покидала Олимпия. Михалис сумел давно уничтожить в нем всякое колебание и всякое смущение, тем паче, что брал все на себя, да еще клялся, что он так устроит, что тот скончается вдруг, на глазах у всех, а виновных не будет.
«Как сделает он это? — думалось Олимпию. — Непонятно. Но Михалису нельзя не верить. Он жаден! А документ на обещанные ему еще десять тысяч, выданный ему, действителен условно. Если он ничего не сделает, то ничего и не получит».
За два-три дня до празднества все приглашенные уже съехались, и дом был переполнен. Самые почетные гости были размещены наверху и в комнатах двух братьев, которые потеснились, оставив себе по две комнаты, а остальные переделав в спальни. Некоторых нахлебников внизу совсем перевели из дома, очистив их помещение для менее важных гостей.
Приезжих из губернии и даже из Москвы было до сорока человек, а в их числе было немало лиц, которых братья лично почти не знали. Это были хорошие знакомые, даже приятели их отца, с которыми он подружился, будучи под судом и живя во Владимире. Братья еще детьми видели их всех на похоронах отца.
В самый день рождения Аркадия все поднялось рано и к девяти часам господа, гости, нахлебники, коллегия и канцелярия в полном составе, даже вся дворня — все направились в экипажах и пешком в главный храм к обедне. Служба была торжественная, потому что служил архиерей, приглашенный заранее со своими собственными певчими и с большим штатом священников и дьяконов.
Красивый, блестящий конвой из гусар стоял фронтом пред папертью, а за ним теснилась целая туча народа, рабочих и крестьян, так как работа на заводах была приостановлена на три дня.
По окончании обедни началось молебствие о здравии боляр Олимпия и Аркадия. Рослый и красивый дьякон, с замечательным голосом, своего рода знаменитость во всем округе, провозгласил многолетие… И голос его прогремевший в храме, разнесся и кругом него. В рядах гусар и толпы услышали явственно:
— Мно-о-гая… мно-о-о-гая лета! — подхваченное певчими.
И тотчас вся Высокса, огласилась гулкой пальбой из пушек, расставленных кругом храма.
Возвращение в дом было тоже торжественно. Коляски с двумя братьями, с архиереем и с тремя самыми почетными гостями двинулись шагом, предшествуемые и сопровождаемые гусарами в кафтанах, залитых золотом, и на великолепных конях. Кругом колясок шли скороходы в диковинных разноцветных нарядах с серебром и с киверами на головах, вокруг которых развевались красные перья.
Ничего подобного Высокса еще не видала.
Один из гостей из губернии, тотчас по приезде своем узнав, какое готовится празднование, заметил:
— Ну, этот Олимпий Дмитриевич из всех бывших Мономахов Владимирских будет самый прыткий, «помономашистее» и отца и деда.
После храма началось принесение поздравлений новорожденному… Аркадий смущался и сиял, и только изредка на лицо его набегала тень. Его пугал взгляд брата. Он видел в глазах Олимпия не только ненависть к себе, а какое-то зловещее злорадство.
«Ни дать, ни взять затевает что-то худое, — думалось Аркадию, — и уж, конечно, касающееся Сани».
А красавица Сусанна Денисовна, явившаяся в дом с матерью тоже поздравить молодого барина, была к тому же бледна и печальна. Судьба отца и брата, конечно, поразила ее.
После поздравления все разошлись отдохнуть, но в три часа снова гостиные переполнились, а в зале уже был накрыт стол на семьдесят с лишком человек. Вся Высокса была налицо. Все нахлебники и главные служащие коллегии и канцелярии были приглашены. Только и отсутствовали по-прежнему больная Сусанна Юрьевна и два Змглода.
Обед длился, конечно, долго, а для виновника празднества показался вечностью, так как Олимпий удивил всех и испугал брата, посадив около себя справа архиерея, а слева Сусанну Денисовну… Красавица всячески отказывалась от этой чести, когда все усаживались за стол, но Олимпий настоял упрямо на своем… Аркадий, севший на другом конце стола с двумя почетными гостями, лишился из-за ревности и беспричинной боязни и зрения и слуха. Он никого и ничего не видел и не слышал. Он видел только через весь стол одну свою возлюбленную, с которой Олимпий не переставал любезничать, как бы нарочно, будто напоказ всем, даже будто с тайным умыслом. Красавица Сусанна, печально бледная и видимо смущенная теперь тем, что от него слышит, отвечала сдержанно…

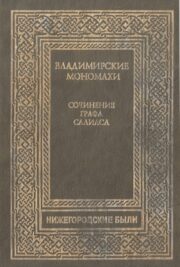
"Владимирские Мономахи" отзывы
Отзывы читателей о книге "Владимирские Мономахи". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Владимирские Мономахи" друзьям в соцсетях.