И исчезла, не закричав.
Глава 40
Май предстояло вскоре выписаться из Массачусетской больницы. Она сидела на кровати и выглядела вполне веселой и бодрой, несмотря на наложенные швы. Джед принес ей плейер и последние записи ее любимой группы, а также кое-что из туалетных принадлежностей по ее требованию, поскольку ей не хотелось быть похожей, как она довольно неудачно выразилась, на беженку. Из Новой Шотландии приехала мать Джеда. Она предлагала Джеду сменить его, но в первые дни он не хотел покидать Май ни на минуту. Теперь, когда прошло уже десять дней, врачи сказали, что швы скоро снимут и Джед сможет забрать девочку домой.
Домой… Считает ли она Сан-Франциско по-прежнему домом?
— Скажи деду, чтобы он прекратил, — сказала Май. — Он присылает мне цветы, подарки всякие, звуковые письма, а недавно я узнала, что он и сестер задабривает, чтобы они лучше ко мне относились. Мне неудобно.
— А он сказал тебе, что ты можешь не возвращать позаимствованные двести долларов?
— Нет.
— Ну тогда бы я на твоем месте не жаловался.
Май решила сменить неприятную тему.
— Что-нибудь слышно от Ребекки Блэкберн?
Джед покачал головой. Он давно привык к положению отца-одиночки и понимал, что нельзя уехать, оставив Май в больнице, но ему хотелось отправиться с Квентином и Ребеккой во Францию. Ребби… Он думал о ней постоянно. После самоубийства Абигейл она не вернулась в Бостон. Сломленный событиями последних дней, Квентин привез тело матери на родину и скромно похоронил в фамильном склепе. Он помирился с Джейн. «Абигейл не воротишь, — сказала она ему, — а ты теперь должен быть самим собой». Джед оказал кузену всяческую моральную поддержку. Только Май он ни за что бы не уступил, но Джейн уверила его, что об этом даже речь не идет.
С помощью детского психолога Джед рассказал Май, как только девочка пошла на поправку, всю правду. Она восприняла его слова на удивление спокойно. Психолог объяснил, что Май всерьез интересовалась событиями вьетнамской войны и, в частности, падением Сайгона, поэтому знает об этом куда больше своих сверстников. «Она давно заподозрила, что имя отца в документах значит не много, — сказал врач. — Ведь вы отказывались говорить с ней об ее матери и о том, что на самом деле произошло во Вьетнаме. Джед, она знает, что многие выехали из Сайгона по подложным документам. Она знает, как невыносима была жизнь для молодых вьетнамских женщин, таких, как Там. Она уже не ребенок, которого надо от всего оберегать. Доверьтесь ей».
Джед попытался.
Май нашла в коробке с шоколадными конфетами самую большую и отправила в рот.
— Ты все еще любишь Ребекку, правда?
Джед отнял у нее коробку, в которой, разумеется, осталось совсем немного конфет.
— Не лезь в мою личную жизнь, девочка.
— Почему? Ты же вмешиваешься в мою.
— Тебе четырнадцать, а мне скоро сорок стукнет.
Жуя, она сказала:
— Вот-вот. Самое время жениться, папа.
Впервые она назвала его папой после того, как он рассказал ей про Квентина и Там.
Май заметила его взгляд. Шоколадная слюна вылезла из уголка рта. Девочка испуганно спросила:
— Ведь ты мой папа, несмотря ни на что?
Он крепко прижал ее к своей груди.
Впервые за двадцать шесть лет, прошедших после гибели мужа, Дженни О'Кифи-Блэкберн приехала в Бостон. Первым делом она пошла на могилу Стивена, что на кладбище «Маунт-Оберн». Затем, одевшись очень просто, по-будничному, она нанесла визит свекру, находившемуся в той же больнице, где лежала Май. Голова Томаса была перевязана, цвет лица отвратительный, но сестры сказали Дженни, что самочувствие его быстро улучшается. Одну медсестру он вконец измучил, каждый день требуя почитать «что-нибудь достойное», причем то, что она предлагала, к «достойному», очевидно, не относилось. Увидев Томаса, Дженни вспомнила, что ему теперь семьдесят девять, что он уже не тот пятидесятитрехлетний мужчина, бостонский дом которого она когда-то покинула.
— Удивительно, как тебе с твоим характером столько лет удавалось избегать подобного, — с улыбкой сказала она, войдя в палату и поставив на тумбочку горшок с геранью. — Помню, что ты отрицательно относился к срезанным цветам. А эти можешь посадить потом на своем дворе и посмотреть, что из этого выйдет. Томас… — Она расплакалась, хоть обещала себе, что не будет. — Господи, прости меня, если сумеешь.
Он протестующе замахал костлявой рукой.
— Было бы чего.
— Я искала, кого бы обвинить во всем…
— Не надо ничего говорить, Дженни. Не было дня, когда бы я не пожалел о том, что не оказался тогда на месте Стивена.
— Знаю, — она придвинула стул и села рядом. — Это было так давно, Томас. Все это время я по-своему скучала по тебе.
Он сжал ей руку.
— Как дети?
— Прекрасно. Я привезла фотографии. Отец шлет тебе наилучшие пожелания. Он велел передать, что ты приглашен посидеть с ним на крылечке за чашкой охлажденного чаю в любое время, когда пожелаешь.
— У вас сейчас тепло?
— Вполне.
— Славно. Позови-ка сестру. Пусть снимет эти проклятые бинты. Мы едем сегодня же.
Дженни засмеялась.
— Ты, как всегда, невозможен. Мы с папой задумали собрать всю семью на День Поминовения[25]. С невестками и внуками соберется целая бригада.
— Помнится, и в 1961 вас была целая бригада.
— Теперь ты меня этим не заденешь. Много воды утекло, я стала совсем другой. Сама воспитала шестерых детей, хозяйничаю на лучших во Флориде цитрусовых плантациях, двадцать шесть лет живу бок о бок с отцом. Я ожесточилась.
— Ты так и не вышла замуж, — заметил Томас.
Дженни без сожаления или грусти пожала плечами и улыбнулась.
— Мне всего пятьдесят четыре. Кто знает, может, еще и выйду. — Не сводя с Томаса ласкового взгляда выцветших синих глаз, она спросила: — Так как насчет Для Поминовения? Упрашивать я не собираюсь, но у тебя уже есть правнуки, которых ты никогда не видел, да и внуки нуждаются в тебе.
Глаза его увлажнились.
— Дженни…
— Если ты беспокоишься о дороговизне проезда, то не стоит волноваться.
Томас вскипел:
— Я не собираюсь принимать ничьей благотворительности.
— А свою долю в «Заумнике»?
Томас приподнялся на кровати и смерил сноху недоуменным взглядом.
— Продолжай.
— Когда Софи и Ребекка пустились в свое предприятие, они просили всех и каждого вложить деньги в этот безумный проект. Я дала немного, дети — и ты.
— Я не вложил в эту игру ни цента.
Дженни откашлялась.
— М-м… Помнишь ту китайскую фарфоровую вазу?
— Которую доставили на одном из кораблей Элизы в 1797 году?
— Да, такую уродливую, с разъяренными орлами.
— Орлы были чрезвычайно популярным мотивом в молодой республике.
— Томас, ваза была безобразная.
Его острый взгляд сосредоточился на Дженни.
— Была, говоришь?
— Уверена, что она есть, но уже не у меня. Ведь ты подарил мне ее тогда. Может быть, потому что я считала ее уродливой. Как бы то ни было, я продала ее одной состоятельной даме из Палм-Бич, а вырученные деньги вложила в «Заумника» от твоего имени. Знаю, что ты предпочел бы получить вазу обратно. Если хочешь, я дам тебе адрес той женщины. Может, уломаешь ее. У тебя теперь достаточно денег, чтобы купить десяток таких ваз.
— Нет, мне не нужен десяток. Мне дорога та.
— Так благодари Бога, что не придется сильно тратиться.
— Сколько мне набежало?
Дженни улыбнулась.
— Если ты говоришь о своей доле, лучше спроси об этом Софи.
— Почему не Ребекку?
— Это дело я устроила с Софи. Ребекка с ее блэкберновской правдивостью сообщила бы тебе обо всем, а я этого не хотела. Мне хотелось помочь девочкам, а извлекать выгоду для себя, продавая дорогие тебе вещи, — нет, это не для меня.
Томас улыбнулся, привстал и поцеловал ее в щеку.
— Не знаю, кому звонить в первую очередь: Софи или агенту по доставке билетов.
— Значит, приедешь?
— Полагаю, если не помру в ближайшие две-три недели.
— Дети будут в восторге. Ах, Томас… — Голос ее дрогнул, она поняла, что вот-вот опять расплачется. — Не уверена, что приедет Ребекка, но на нее ты уже вдоволь насмотрелся. Если у нее есть голова на плечах, то она должна поехать в Сан-Франциско. Завтра Джед увезет Май домой. А я положила на него глаз как на будущего зятя еще тридцать лет назад.
— Где сейчас Ребекка?
— Во Франции, — вздохнула Дженни.
К отвращению пуристов[26], что сидели за соседним столиком в кафе-шантане, Ребекка потягивала из высокого стакана охлажденный кофе с молоком и пыталась расшифровать статью в утреннем выпуске «Монд». Наконец она протянула газету сидевшему напротив Жану-Полю Жерару.
— Мой французский меня подвел. Правильно ли я ухватила основное?
Жан-Поль мельком взглянул на заголовок и улыбнулся:
— Вероятно.
За последние десять дней он сильно переменился. Он все-таки лег в больницу, где из его ноги извлекли пулю, но вопреки советам докторов выписался, как только покинул операционную. Весна в Париже всегда похожа на сказку. Опираясь на палку, он водил Ребекку из одного уголка родного города в другой. Она как-то прожила в Париже полгода, но по-настоящему так и не видела его красот.
Он рассказал Ребекке о Гизеле, о том, что он был ее «капризом», ее желанным ребенком. Но Гизела не хотела, чтобы отцом стал кто-нибудь из ее любовников. Она мечтала о честном, умном, добром мужчине… о друге. В конце 1934 года Гизела отправилась поразвлечься в колониальный Сайгон и там узнала, что Эмилия Блэкберн скончалась в прошлом году. Томас был безутешен. Гизела хорошо знала Эмилию и ее супруга. Она раскрыла объятия Томасу. И решила: он. Он будет отцом ее ребенка!

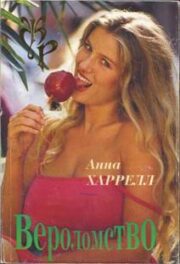
"Вероломство" отзывы
Отзывы читателей о книге "Вероломство". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Вероломство" друзьям в соцсетях.