Так случилось, что близких подруг у Веры не было. В институтах мадемуазель Иверзнева раздражала других девиц вечной книжкой в руках и полным нежеланием рассуждать о духах и украшениях. Вере же казалось нелепым и пошлым часами болтать по-французски о преимуществах корсета на китовом усе перед казённым, с вульгарными деревянными пластинками. Лучшим её другом всегда был брат Мишка, с которым они были погодками и привыкли с детства делиться самым сокровенным. И сейчас, сидя в плохо освещённом кабинете, слушая, как свистит за окном ветер, Вера думала о том, что не в силах принять этого решения одна, а решать-то всё же надо, и скорее всего… Глядя в чёрное, залитое дождём окно, Вера вдруг спокойно поняла, что выйдет замуж за Команского. У неё нет больше сил одной тащить непосильную ношу чужой семьи, чужого хозяйства… А впереди – пустота. Никита забыл о ней, и как могло быть иначе? Вероятно, он, как и все здешние соседи, счёл, что она попросту сделала блестящую партию, окрутив вдового князя Тоневицкого. И Вера понимала: у него было право так думать.
«Миша, я ждала три года, – ложились на шероховатую бумагу неровные чернильные строчки. – Три года я ждала, что он вспомнит обо мне, напишет, приедет, хоть как-то напомнит про себя… Тщетно. Ты всё время упрекал меня, что я не делаю к нему первого шага – но с какой же стати? Разве не он мужчина? Разве не от него я вправе была ждать этого шага и в эти три года, и много раньше? Но нет, ничего не было. Так кто же и в чём же упрекнёт меня? Наверное, есть где-то на свете решительные особы, готовые взять судьбу в свои руки и преследовать мужчину криками о своей любви… Но я себя в такой роли не представляю. У моей Аннет действительно большие способности, ей надобно всерьёз учиться музыке, а кто здесь сможет её учить? Везти её в Италию на собственные доходы невозможно: содержание Сергея в полку слишком дорого обходится, а скоро и Коле поступать в университет… Александрин надо выдавать замуж, а в нашей глухомани сделать это немыслимо… Миша, я снова выхожу замуж. Возможно, это слишком поспешно и глупо. Но никак уж не глупее моего нынешнего положения, когда я каждый день рискую разорить пасынков и падчерицу своим неумелым хозяйствованием. Не знаю, стоят ли такой жертвы чувства господина Закатова. Я наперёд знаю всё, что ты можешь возразить мне. Всё это за свою жизнь я слышала уже тысячу раз. Я знаю, что существуют особые женские уловки, тонкое кокетство, способное подвигнуть мужчину на немыслимые подвиги во имя любви… И уж, во всяком случае, умная женщина всегда заставит мужчину сделать предложение, – так, кажется, говорила маменька? Верно, она была права, но что мне делать с собой, неспособной вовсе ни на какое кокетство? Да и что толку теперь говорить об этом – в мои годы, в моём положении? Вот сейчас пишу тебе это всё – и не могу понять: чего же стоит мужчина, которого нужно обхаживать и улещивать подобным способом, ведя к женитьбе, как телёнка на верёвочке? Противно… А ведь так веками устраиваются браки! Мишка, отчего же мне не пришлось кокетничать и кривляться с моим покойным супругом? А сейчас – с паном Команским? Неужто сей господин в его сорок три года влюблён в меня больше – больше и крепче, чем Никита, который, по твоим словам, всю жизнь никого, кроме меня, не любил? Ты будешь говорить, что я постоянно стращала Никиту своей холодностью, своей насмешливостью, своей учёностью – бог знает чем ещё, чего не должно быть в благонравной девице… Но отчего же других эти мои ужасные качества не пугали? Чего-то я, право, не понимаю в жизни… И, боюсь, никогда уже не пойму. Но такова уж твоя единственная сестра: безнадёжный сухарь и синий чулок. И ждать у моря погоды мне, боюсь, некогда и незачем. Обстоятельства требуют моего быстрого решения. Я выхожу замуж, Миша. И поверь, от этого хуже, чем есть, не станет».
Вера закончила письмо просьбой не сообщать пока о её решении старшим братьям, пообещав, что напишет им сама, когда дело будет решено официально. Запечатав конверт, она положила его на стол вместе с прочими письмами, которые завтра надлежало отправить на почтовую станцию, погасила свечи и ушла в спальню.
А ночью ей приснился Никита – там, в Москве, в их старом доме в Столешниковом переулке. Они были совсем молоды, чему-то безудержно смеялись, и Вера была крайне удивлена, проснувшись и заметив, что лицо её и подушка – в слезах. Письмо брату дожидалось её в кабинете, и она тем же утром отправила его.
Всю следующую неделю от Команского не было ни слуху ни духу – чему Вера, впрочем, была только рада. Холсты благополучно отбыли в уезд, по поводу жита пока ещё ничего слышно не было, и холодным вечером, привычно прогуливаясь по пустой дубовой аллее, Вера размышляла: может быть, не рассчитывать на помощь Команского, а продать всё прежнему покупщику, пусть и не по такой выгодной цене? Размышлялось, впрочем, плохо. Вечер был сырым и промозглым, голые ветви дубов стучали над головой Веры, сбивая с мыслей, под ногами то и дело попадались твёрдые катышки желудей, на которых легко было поскользнуться. Разумнее всего, конечно, было отправиться домой ужинать, и Вера уже собиралась это сделать, когда из-за поворота аллеи её окликнул незнакомый, очень тихий голос:
– Барыня… Доброго вам вечера.
– Здравствуйте, – машинально ответила Вера, открывая глаза и недоумённо глядя на женскую фигуру, робко стоящую под огромным дубом. Поймав взгляд Веры, женщина низко поклонилась, и княгиня убедилась в том, что не знает её.
– Вы ко мне? Вас кто-то послал? – осведомилась она. – Давайте в таком случае пройдём в дом, и там…
– Ой, нет, барыня, милая, ни в коем разе! – Женщина испуганно всплеснула руками. – Я и так какой день сюда прихожу, чтоб вас одну застать… Всё не случается! Только вот сегодня повезло, и вокруг никого…
– Но кто же вы? – уже с лёгкой тревогой спросила Вера, подходя ближе… И чудом сдержала вздох восхищения. Стоявшая перед ней женщина была очень хороша собой. Ей было явно за тридцать, и кожа её, смуглая, почти оливковая, как у итальянки, уже начала увядать. Но морщин ещё не было видно на этом мягком, тонком, удивительно правильном лице, точёные черты которого заставили Веру вспомнить Рафаэлеву мадонну. Чёрные, очень большие глаза смотрели из-под густого ворса ресниц испуганно – словно красавица вот-вот готова была развернуться и бежать прочь. Тёмно-рыжие, с бронзовым блеском косы лежали на затылке тяжёлым узлом. Простое холстинковое платье было чисто и аккуратно, чёрная шерстяная шаль без рисунка не скрывала великолепной линии плеч. Было очевидно, что это не простая крестьянка, а горничная или управляющая из богатого дома.
– Кто вы? – повторила Вера, сама не замечая, что любуется этим прекрасным, словно вышедшим из-под резца античного мастера лицом. Женщина опустила взгляд.
– Я, изволите видеть, господина Андрея Львовича Команского дворовая… Кухарка его, Глафира.
– Так вас послал пан Команский?
– Боже сохрани! – С лица Глафиры сбежала краска. – Да если Андрей… Господин Команский узнает только… Христом Богом молю, барыня драгоценная, не говорите ему, что я к вам приходила, не то…
– Не беспокойтесь, я ни слова ему не скажу, – поспешно заверила Вера. – И называйте меня, пожалуйста, Верою Николаевной, мне так привычнее.
– Благодарствую… Да и вы уж мне тогда «ты» говорите, мне тоже привычней станет, – вымученно улыбнулась Глафира, и Вера только сейчас заметила, что совсем недавно она плакала.
– Я постараюсь, – согласилась Вера. – Отчего же вы… Ты хотела меня видеть? И почему такие предосторожности? Может быть, всё же пройдём в дом?
– Ой нет, ради Матери Божьей… Меня-то у вас в доме знают, не дай бог, господину Команскому донесут…
– И что же? В чём несчастье? Пан Команский не позволяет своим людям разговаривать с чужими господами? – улыбнулась Вера.
Глафира только покачала головой, и её тёмные глаза снова наполнились слезами.
– Барыня… Вера Николаевна, вы прежде всего меня простите. Не в своё я дело лезу, ещё как не в своё… И коли Андрей узнает, мне вовсе худо может быть, ведь кто я-то такая? Простая баба крепостная, кухарка… А он ведь мне волю давал! Давал, да я-то не взяла! – с неожиданной гордостью сказала она… И тут Вера всё вспомнила.
– Так ты – та самая Глафира? Жена пана Команского? Это правда?
– Кто?! – одними губами переспросила женщина, и в её расширившихся, мокрых от слёз глазах мелькнул ужас. – Я – жена?! Отродясь не было этого, Вера Николаевна! Да как я и помыслить могу… Как и в голову только взять… Наболтали вам, а николи такого не было! Жила с ним, истинно вам говорю, двенадцать лет жила и сейчас живу, но о дерзости этакой и не помышляла отродясь! В том и крест поцеловать могу! Бабы, змеюки, всякое болтают, а я перед всеми честная! Да сохрани меня господь барину в супруги набиваться! Нешто места своего не знаем?!
– У вас ведь есть дети… – медленно сказала Вера, слово за словом вспоминая последний разговор с Протвиной. – Это правда или тоже сплетни?
– Истинная правда! Двое детишек, Григорий и Савушка, обоих Андрей Львович в частный пансион в Смоленске устроил. И они-то не в крепости, нет! Я до конца дней своих Богу благодарна, что всё для них этак хорошо устроилось…
– Но чего же вы хотите от меня? – Вера с тревогой заметила, что её собеседница едва держится на ногах от волнения.
Вдвоём, оглядываясь, как разбойники, они вошли в беседку в глубине аллеи.
Едва оказавшись на почерневшей скамье, Глафира не выдержала и расплакалась. Она плакала тихо, сдавленно, смахивая слёзы углом шали и беспрестанно повторяя: «Ох, грех какой… Ох, сейчас, сейчас, простите, барыня…» Вера не старалась успокоить её, по опыту зная, что от утешений может быть только хуже. Она смотрела через плечо Глафиры на темнеющий сад, на ветви дубов, раскачивающихся над едва заметной в сумерках дорожкой, и машинально стягивала на плечах накидку.
– Вы меня, Христа ради, простите, барыня, что я к вам явиться насмелилась… – Глафира наконец слегка успокоилась и подняла на Веру мокрые глаза. – Видит Бог, я вторую неделю храбрости набираюсь. Да вас ещё одну и не застать… Спасибо, люди добрые рассказали, что вы в этой аллее по вечерам моциён совершаете, так я и решилась… Барыня, голубушка, Андрей Львович ведь вам предложение сделал? Замуж вы за него выходите?

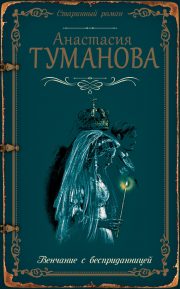
"Венчание с бесприданницей" отзывы
Отзывы читателей о книге "Венчание с бесприданницей". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Венчание с бесприданницей" друзьям в соцсетях.