– Никак не могу знать. – Закатов действительно ничего не понимал. – Но я завтра же еду туда.
– Дозволь с тобой, барин!
– Не могу, Прокоп Матвеич. На кого же я оставлю имение? Не взыщи, поеду один… Но обещаю, что ты первым обо всём узнаешь. – Никита Закатов помолчал, глядя в тёмное поле, над которым поднималась ущербная луна. – Говоришь, парни за ней, как нитка за иглой? Стало быть, есть страсть и у крестьян?
– Стало быть, есть, – выговорил Прокоп с таким отвращением и горечью, что Закатов невольно вздрогнул и пристально посмотрел на него. – И чего с неё хорошего вышло?!
Ответить на это Никите оказалось нечего.
– Я, Иверзнев, никак в толк не возьму: прячешь ты её, что ли?
– Ну, вот ещё, вздор какой! Она – человек, а не вещь, чтоб её прятать!
– Это как сказать… Она ведь, кажется, твоего дружка крепостная девка?
– И что из этого?!
– Сомнительные всё же у тебя знакомства! Штабс-капитаны какие-то, крепостники из дремучих уездов…
– Вот уж это, Семирский, тебя никак не касается! – вспылил Михаил. – И если тебе более нечего мне сказать, то, прости, я спешу!
Федька Семирский только захохотал в ответ. Они стояли возле университетских ворот. Мимо пробегали студенты с книгами, слышались обрывки оживлённых разговоров, взрывы смеха: только что закончились лекции. Полуоблетевший клён у ограды ронял на синие фуражки последние листья и холодные капли недавнего дождя. Сырой ветер лез за воротники, и в конце концов стоять стало совсем зябко: друзья, не сговариваясь, засунули замёрзшие ладони под мышки и резво зашагали вниз по Моховой.
– Смерть как есть охота! – сообщил Семирский. – А мне ещё у Щетихиных за уроки не заплатили, всё завтраками кормят! И в редакции за две статьи и перевод должны! Право слово, хоть бросай курс и в гувернёры нанимайся! А тётка ноет, ей денег да сластей подавай! Хуже дитяти малого, а ведь бригадирша!
Михаил молчал. Как всегда в разговорах с Семирским, он чувствовал себя немного виноватым. Ему самому не надо было, по крайней мере, бегать по урокам до поздней ночи, чтобы раз в день пообедать. А Фёдор Семирский происходил из нищей семьи саратовского дворянина, отец его имел всего пару крепостных и тратить деньги на обучение сына в университете не считал нужным. Фёдору, по его собственным рассказам, приходилось в детстве самому и землю пахать, и воду носить, и телят пасти. Говорил он, впрочем, об этом с гордостью и любил повторять, что уж он-то изнанку русского народа видел с пелёнок. В Москве Семирский жил у выжившей из ума старухи тётки, которая, к счастью, не требовала денег за квартиру, но постоянно просила сладостей и пряников. Если же племянник пряников купить не мог, Анисья Фёдоровна страшно обижалась, поджимала сухие губки и принималась рассуждать о том, что великовозрастный балбес сидит у неё, несчастной вдовы, на шее, ничего не делает, не служит, не верует в Христа, а только учится в университете богопротивным глупостям. Нытьё тётушки Федьку раздражало, и он старался пореже появляться в её доме на Сретенке, болтаясь по приятелям. Денег у него отродясь не водилось, и даже в скромных складчинах Семирский не всегда мог участвовать, но в студенческих компаниях неизменно имел большой успех. Он мог подолгу и самоуверенно рассуждать обо всём: о минувшей войне, о положении крестьянства, о еврейском вопросе, о медицине, о славянской политике, о литературе. Не было, пожалуй, предмета, о котором у студента Семирского не имелось бы собственного мнения. Мнение это Фёдор доказывал с таким жаром и апломбом, что оппонент иногда складывал оружие лишь для того, чтобы не слушать лишнего крику. Друзья Семирского уважали, называли его «Федькой-трибуном» и «Гласом народным» и заключали пари: удастся ли хоть кому-нибудь переспорить этого пламенного оратора. Пока что ни одно подобное пари выиграно не было. Дамского общества Семирский не выносил, заявлял, что все эти благовоспитанные барышни бесполезны, необразованны и скучны и что женится он исключительно на крестьянке – или, в крайнем случае, на кухарке, – с которой хоть поговорить будет о чём. Студенты внимали ему с благоговением – и на вечеринки «с дамами» Семирского благоразумно не приглашали.
Хотя студентов-«белоподкладочников» Семирский всячески презирал, с Иверзневым они были дружны. «Федька-трибун» уважал Михаила за участие того в Крымской войне – но при этом любил поддеть друга за то, что тот живёт на всём готовом, в то время как «дельные люди» должны носиться по урокам и перебиваться с хлеба на воду – «а народ российский и вовсе бедствует немыслимо!» Михаил чувствовал, что Семирский прав, и старался почаще приглашать его обедать. Вот и сейчас он предложил:
– Пойдём ко мне! Федосья с утра щи варила… Заодно и готовые списки тебе отдам.
– Вот это дело! – оживился Семирский. – У меня, брат, четверо человек этих списков дожидаются! Я сам вчера до ночи сидел переписывал, покуда свеча не догорела! Тётка с утра увидала, раззуделась – ужас! И зачем это убытков столько, и на что свечи палить, и для чего надобно всю ночь бумажками шуршать, неблагонадёжное это занятие… Я ей на это и отвечаю: дремучее вы существо, Анисья Фёдоровна, вам всё, что не пряник медовый – то и неблагонадёжно…
– А она что? – полюбопытствовал Михаил.
– А, всё одно… – сморщился Семирский. – И неблагодарный, и бездельник, и даром хлеб отцовский ешь… А мне папенька с позапрошлого Рождества ни копейки не прислал, да я и не жду! Трудовой человек, Мишка, должен сам о себе позаботиться да ещё и тётке пряника купить… Чтоб не слишком житьё отравляла. Так скажи мне, эта девица, которая тебе бумаги-то принесла, всё ещё у тебя? Покажешь мне её? Или она уже назад в свою деревню отбыла?
Михаил немедленно пожалел о том, что пригласил Федьку в гости. Но отступать уже было поздно, и он нехотя сказал:
– Нет, она у меня. Дожидается, пока приедет Никита и…
– А-а, барина-благодетеля ждёт! – фыркнул Семирский. – Когда тот явится за своим добром и в острог её сдаст? Слушай, может, лучше спрячем её куда-нибудь?
– Куда же? – пожал плечами Михаил. – Она – беглая, в розыске… Ты же сам всё знаешь!
– Поня-атно… – протянул Федька. – По-твоему, лучше будет вручить её барину, который над ними издевался столько лет?
– Положим! – возразил Михаил. – Ни над кем Никита не издевался, он вовсе ничего этого не знал!
– Вот уж, брат, не поверю никогда! – расхохотался Семирский так, что с забора сорвалась ошалевшая ворона. – Они, друг Мишка, всё знают… Только невыгодно им это обнаруживать! Денежки свои твой Никита получал – и был весьма доволен! Что ж ему о своих рабах думать?
– Никита – порядочный человек, – сухо возразил Михаил. – Я попросил бы тебя не высказываться о нём в таком духе.
– О его порядочности можно смело судить, прочитав рукопись! – хмыкнул Семирский, натягивая на уши фуражку. – Из каждой строки эта самая барская порядочность так и прёт! А ты, брат, сам себе противоречишь! Коль уж твой дружок такой замечательный и кругом прав – отчего ты эту Устинью в полицию не сдал? Вместе с поповской рукописью? Отчего мы списки делаем и уже в Петербург послали? Отчего ты сам кричишь, что нужно знать о том, что творится в деревнях? И правильно кричишь! Если мы не закричим, то кто это стоячее болото взбутетенит?! Твой Закатов, что ли? Да он, как свинья супоросая, с места не тронется, покуда у него кормушка полна!
– Оставь его в покое, – устало попросил Михаил и, чтобы отвлечь приятеля от скользкой темы, заговорил об Устинье: – Ты не поверишь – она у меня «Ботанику» Якобсона взяла – и уже неделю из рук не выпускает! При том, что неграмотна! Знает все до единого растения – и о каждом у неё своё суждение, и знает, когда брать, и во что употреблять, и с чем сочетать… Уму непостижимо! Вот тебе и тёмный народ… Представляешь, если её грамоте обучить?! Да дать настоящие книги по медицине, да прочесть пару лекций из фармацевтики… Будет готовый фельдшер!
– Так за чем же дело стало, давай обучим! – азартно предложил Семирский. – Я, брат, эти дела знаю! Уж коль у меня купца Щетихина мальчишки грамоте выучились – так уж Устинью твою образую как-нибудь! Вот что, ты меня нынче с ней познакомишь – а далее я уж сам её уговорю! Не беспокойся, я с простым народом обращаться умею!
– По-моему, слишком ты спешишь… Да и не успеем. – Михаилу всё меньше и меньше нравилась эта затея. – Никита со дня на день будет здесь и заберёт её. Кроме того…
Он вдруг умолк, не замечая насмешливого взгляда приятеля. Мысль о том, что Устиньи вскоре не будет в его доме, что разноглазая девчонка с пытливым недоверчивым взглядом уйдёт из его жизни, скорее всего навсегда, неожиданно вызвала острую боль под сердцем. Михаил сам удивился этому. Уже сворачивая в Столешников с Петровки, он медленно сказал:
– Знаешь, она ещё рассказывает такие сказки… У нас каждый вечер полная кухня людей набивается! И все ребятишки соседские, и Федосьины подруги, и дворниковы, и сам Митрий… Право, хоть записывай за ней! Какие-то деревенские россказни про домовых и про мертвецов, – а удивительно складно выходит! По-моему, не хуже, чем у Гоголя!
– Как хочешь, Иверзнев, мне на неё взглянуть надо! – решительно заявил Семирский. – Покуда она ещё здесь, а не у твоего дружка-барина. И записать кое-что с её слов, между прочим, не помешало бы! И не сказки, а дело настоящее! Поповская рукопись – вещь, безусловно, стоящая, но поп – он и есть поп… А коли сама крепостная крестьянка о том же самом расскажет во всех подробностях… Да из неё такое вытянуть можно, о чём тот отец Никодим и знать не знал, слово даю! При случае и напечатать умудримся! Да, вот прямо сейчас и побеседуем с твоей Устиньей обо всём! И не делай кислой физиономии! Она ещё сама рада будет с понимающим человеком о своих бедах поговорить!
Михаил не нашёлся что возразить. Они вошли через калитку в прозрачный, облетевший сад, зашагали по усыпанной листьями дорожке к дому.
Со стороны дровяного сарая слышались лихие удары топора и воркотня Федосьи:

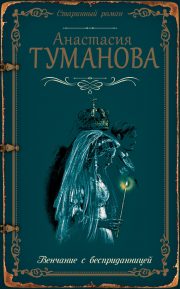
"Венчание с бесприданницей" отзывы
Отзывы читателей о книге "Венчание с бесприданницей". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Венчание с бесприданницей" друзьям в соцсетях.