Она надеялась встретить по пути богомольцев: летом целые толпы их брели по большой дороге, кто – к Киеву, кто – на Москву. Но, к её изумлению, никого из «божьих людей» ей не попалось: на дороге лишь изредка встречались мужицкие телеги да гремели мимо казённые тройки. Однажды Устинье пришлось полдня просидеть на развилке дорог: она не знала, в какую сторону ей нужно сворачивать, а спросить было не у кого. Только к вечеру на дороге показалась разбитая цыганская колымага, и смуглая тётка со смехом указала Усте правильный путь.
Еда скоро закончилась, как ни старалась Устинья есть понемногу, и настроение путницы сразу упало. К тому же шагать по подмёрзшей грязи было очень тяжело.
Вот когда Устинья пожалела о том, что не согласилась подождать денёк и взять от деда Пахома лапти! Разумеется, надолго бы их не хватило, через три-четыре дня от лыка остались бы ошмётки, но хотя бы эти дни можно было не ковылять по острым, смёрзшимся комьям! Когда стало совсем невмоготу, Устинья зубами порвала на полосы котомку и этими лоскутами обернула ноги. Ненадолго стало легче, но вскоре истрепалась и холстина, и дальше до самой Москвы Устинья брела босиком.
Довольно быстро она поняла, что идти нужно не по самой дороге, а по обочине. Прибитая морозом трава терзала ноги не так сильно, как обледеневшая грязь. Но сбитые в кровь пятки не заживали, и идти становилось с каждым днём всё мучительней.
Спать приходилось в холодном осеннем поле. Обычно Усте попадались невывезенные скирды сена, и она радостно зарывалась в их пахучее, ещё тёплое по-летнему нутро. Но несколько раз пришлось всё же ночевать в кустах близ дороги. От холода зуб не попадал на зуб, ночь казалась бесконечной, сразу принимались ныть и ноги, и грудь, и голова, и голодное нутро… Устинья плакала тихо, без слёз, с сухими глазами, уткнувшись лицом в рваный рукав. «Господи, Ефим, сил моих больше нет!.. Кабы знать только… кабы знать, что живой!» Но за пазухой по-прежнему лежали бумаги отца Никодима. И, давя безнадёжные рыдания, Устя знала: утром встанет солнце – и она пойдёт дальше.
Совсем худо стало, когда начались дожди. Однажды Устинья проснулась в придорожных кустах, с которых на неё падали ледяные капли. До рассвета было ещё далеко, вокруг стояла непроглядная тьма. От холода одеревенело всё тело, и, хочешь не хочешь, надо было подниматься. Стуча зубами, Устинья кое-как встала на ноги и зашагала в потёмках по раскисшей дороге. Идти было всё же теплей, чем валяться в кустах.
Когда из свинцовых туч вывалился блёклый рассвет, Устя разглядела в нескольких саженях от дороги растрёпанную копну и побежала к ней по колючей стерне. Рухнув в сено, она мгновенно забылась тяжким, неспокойным сном. Её кидало то в жар, то в холод, по спине ползли капли пота, зубы стучали от лихорадки, – а перед глазами, хоть убей, стояло загорелое, смеющееся, зеленоглазое, самое родное на свете лицо, светились белые зубы, хриплый голос шептал: «Устя, Устюшка, сердечко, игоша моя разноглазая…» – и она бежала к нему куда-то сквозь ледяной дождь и холод, кричала, задыхаясь: «Ефим, пожди, постой, я с тобою, я…» А пути не было видно за кромешной тьмой, и рыдания давили горло, и озноб сотрясал всё тело.
Она очнулась к вечеру, когда выпавший снег растаял, а над полями повисло красное холодное солнце. Стуча зубами, Устинья выбралась из копны, и сырой, холодный воздух тут же хлынул за ворот рубахи. Смертельно не хотелось покидать тёплое убежище. Но Устя напомнила себе, что она и так провалялась в забытьи целый день. Стало страшно умереть вот так, возле дороги, – всего-то несколько вёрст (как ей казалось) не дойдя до заветной цели. Глубоко вздохнув и поправив за пазухой свёрток, Устинья стиснула зубы и зашагала через поле к мутно блестевшей лужами дороге.
Дождь зарядил надолго. Каждый день начинался со страха, что размокнут за пазухой драгоценные бумаги. С утра до ночи Устя брела по раскисшему тракту. Теперь она даже сожалела о том времени, когда мёрзлая грязь резала пятки. Идти под дождём приходилось согнувшись. Беглянка судорожно прижимала к бокам локти – чтобы струйки воды со спины не затекли под грудь, где лежал свёрток. Ноги глубоко погружались в чавкающую грязь, и выдирать их с каждым днём делалось всё труднее и труднее. Теперь перед глазами Усти всё время была эта липкая дорожная трясина. Не было сил даже обернуться, чтобы кинуть взгляд на дорогу у себя за спиной. Устинья приноровилась ловить ухом малейший звук позади – чтобы вовремя скрыться в бурьяне от телеги или экипажа.
Ватагу нищих вконец измотанная Устя встретила уже у Подольска. Они сердобольно сунули ей корку хлеба и сообщили, что до Москвы осталось меньше сорока вёрст. На здоровых ногах Устинья отмахала бы эти вёрсты за день. Но теперь, в лихорадочном жару, от которого всё плыло перед глазами, она только и могла, что плестись в хвосте оборванной вереницы бродяг. Когда делалось совсем уж худо, присаживалась на обочину. Нищие никуда не торопились, заходили в богатые подмосковные сёла, выпрашивая Христа ради «кусочки», пели божественное под окнами, дрались вечерами из-за добычи и играли в карты. К Златоглавой эта орава подошла лишь неделю спустя, уже в середине октября, – когда дорогу снова схватило заморозком.
– Тётка Глаша, а ты допрежь на Москве бывала? – сипло спросила Устя худую как жердь оборванку, у которой сквозь обширные прорехи в рубахе просвечивало сухое смуглое тело.
Та расхохоталась беззубым ртом.
– Вестимо, как же не бывать! Кормилица она наша – Москва-то!
– Столешников переулок знаешь? Христа ради, отведи меня туда!
– А что дашь за это? – сощурилась нищенка.
– Что хочешь, то и возьми, – обречённо сказала Устинья. – Хочешь – сарафан с себя сыму и отдам?
– Этак тебя заберут! – хмыкнула Глашка. И задумалась. – Давай вот так… Я тебя до Столешникова доведу – а там, у дома, ты свой сарафан мне и отдашь. Ждут ведь тебя там? Всё не так срамно, как по улице в исподнице идти!
У девушки уже не было сил представить, что скажет барин, увидев её в одной рваной рубахе на пороге дома. Но мысль о том, что Ефим уже может быть там, в этом неведомом переулке, придала ей решимости.
– Договорились. Веди.
Глашка бросила несколько слов остальным нищим, те рассмеялись. Две женщины отделились от ватаги и пошли вдоль обширных огородов к Камер-Коллежскому валу.
Глашка явно не обманывала: она хорошо знала дорогу и уверенно шагала по городским улицам, поглядывая по сторонам. Устинья едва тащилась за ней, изо всех сил стараясь не лишиться сознания. От душного жара нечем было дышать. Свежести октябрьского дня Устя уже не ощущала, задубевшие ноги больше не чувствовали холода. Словно в бреду, проплывали перед глазами расписные церкви, большие каменные дома, кудрявые колонны, экипажи, дамы в нарядных туалетах, солидный околоточный на углу… На одном из домов она увидела двух огромных каменных баб, держащих не то крышу, не то наличник на окне. Бабы были одеты ещё хуже неё: в одни лишь юбки, бестолково перекрученные на поясе, и каменные груди бесстыдно вываливались на улицу. «Верно, я ума лишилась, коль такое мерещится… – в панике подумала Устинья, поскорее отворачиваясь от срамных баб. – Господи… Дойти б скорей…» А Глашка, посмеиваясь, ещё и дёрнула её за рукав:
– Глянь, девка, эки львища сидят! Страшенные!
«Кто?..» Устинья через силу взглянула на двух каменных львов у ворот Английского клуба, шарахнулась от них. «Чур меня, страсть какая… Мать-Богородица, да что ж со мной? Что блазнится-то? Нешто такой зверь на свете бывает?.. Как есть, разума лишаюсь…»
Тут, на её счастье, Глашка свернула с шумной нарядной Тверской. Впереди замелькали низенькие деревянные домики и яблоневые сады Столешникова переулка. Дом Иверзневых отыскался сразу же: небольшой, в два этажа, крашенный поблёкшей зелёной краской. Из-за забора топорщились облетевшие кусты.
– Ну вот – сюда тебе, – усмехнулась Глашка. – Давай сарафан – по уговору!
– Пособи снять… – одними губами выговорила Устинья, развязывая пояс. Бумаги отца Никодима упали на землю, и она торопливо наступила на них чёрной ногой. Но нищенка посмотрела на свёрток без всякого интереса и, вцепившись крепкими, заскорузлыми пальцами, стянула с Устиньи обещанное тряпьё.
– В расчёте, стало быть! Прощай, не поминай лихом! – крикнула Глашка и тут же исчезла, как не было её.
Устинья подобрала с земли бумаги. Шатаясь, держась за забор, выпрямилась. И из последних сил ударила в воротную калитку кулаком.
Вскоре послышались шаги и ворчанье:
– Иду, иду уже, что за блажь такая – в ворота колошматить? С петель сорвёшь, иду, говорят тебе!
Калитка приоткрылась, и из неё выглянула старуха в опрятном коричневом платье и замызганном фартуке. Увидев Устинью, стоящую у ворот в одной рубахе, она вытаращила глаза:
– Тебе кого надобно, милая?!
Устинья хотела ответить – и не смогла. Горло словно стянуло петлёй. Голова отчаянно кружилась, волны дурноты накатывали одна за другой.
– Да говори, коль пришла! – Бабка уже готова была захлопнуть калитку перед носом странной гостьи. – Христа ради, что ль, тебе подать?
– Ба… барина надобно… – едва сумела прошептать Устинья. – Закатова, Никиту Владимирыча… Позови, бабушка, ради бога…
– Вот те раз… Так нет его! – озадаченно сообщила бабка. – Ещё в запрошлом месяце к себе в имение уехал, в Смоленскую губернию! А тебе, девка, его по какой надобности требуется?
– Как… уехал?.. – едва выговорила Устя. Улица качнулась под ногами, дёрнулись куда-то вверх ворота, и последнее, что она услышала, падая на землю, был испуганный крик старухи.
Устинья очнулась от холодных капель, брызнувших в лицо. Под спиной чувствовалось что-то твёрдое. Перед глазами расплывались мутные разноцветные пятна. Девушка крепко зажмурилась, снова открыла глаза – и пятна понемногу слились в лоскутное одеяло, свешивающееся с огромной белёной печи. Вид печи неожиданно успокоил её: у них в каждом доме была такая же. Оглядевшись, Устя увидела, что лежит в большой кухне с закопчённым потолком и большим деревянным столом, на котором высились чугунки и медные кастрюли. В углу висела икона Божьей Матери с восковыми цветочками, заткнутыми за оклад. На подоконнике красовались цветы в горшках, а свет из окна заслоняла массивная фигура бабки в коричневом платье.

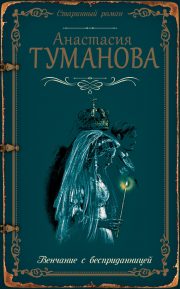
"Венчание с бесприданницей" отзывы
Отзывы читателей о книге "Венчание с бесприданницей". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Венчание с бесприданницей" друзьям в соцсетях.