– Как можно, ваша милость! – пропыхтел один из вожатых. – Пятый день постится, как велено! Только воду пил!
– Смотрите мне! – Барин, пошатываясь, встал и тяжело навалился на затрещавшие перильца. – Коли наврали – всех до единого ему скормлю! Ну, атаман Кулак Силыч, – поборешься с моим Михайлой? Или кишка тонка?
«Ах ты змей…» – безнадёжно подумал Ефим, глядя, как заворожённый, в ревущую красную пасть зверя. За спиной тревожно сопел Антип.
– Ну что, братка, попрощаемся? – повернувшись, едва слышно спросил его Ефим. – Прости, коль грешен был…
– Ефимка, брось, – тихо, сурово велел Антип, не сводя глаз с медведя. – Развяжут – сразу бежи! Пущай лучше этот ирод в спину палит – всё легче, чем так…
– Малча-ать! – властно раздалось с крыльца. – И коли бежать вздумаешь – всё едино поймаю и тогда уж связанным Мишеньке отдам! Я тебе, каторжнику, и так величайшую милость оказываю! Коли Михайла завалишь – иди на все стороны, препятствий не учиню! Сможешь ли?
– Смог бы, барин! – из последних сил превозмогая страх, отозвался Ефим. – Коли б ты меня с утра в верёвках не держал. Руки-то уже не чуют ничего!
Чёрные, мутные глаза с веранды уткнулись в него бессмысленным взглядом – и до Ефима вдруг донёсся такой же бессмысленный смех. Венедикт Модестович ничего не говорил – лишь смотрел на связанного парня и негромко смеялся. Волна липкого ужаса обдала всё тело: Ефим отвернулся.
– Блажной, что ль, барин ваш? – одними губами спросил он у стоящих рядом.
Мужики не ответили. Один из них, глядя в землю, мрачно сказал:
– Руки давай, паря. Помогай тебе Христос.
– Лучше б он вам помог, – глядя в серое, набрякшее дождём небо, процедил Ефим. – Вурдалака этакого в господах иметь – не шутка…
– Да помолчи ты!.. – Мужик с сердцем дёрнул верёвки… И запястья парня освободились.
Ефим поднял руки, попробовал пошевелить ими – и не почувствовал ни запястий, ни пальцев.
– Что – затекли? – чуть ли не заботливо осведомился Венедикт Модестович. – Ну, уж это не моя печаль. Сёмка, Ерёмка, – отпускай! Эй, рота, в штыки!
Круг дворовых немедленно ощетинился вилами и рогатинами.
– Да пожди ты, сучий потрох, дай хоть кровь в руки вернётся! – заорал Ефим… В это время цепи с лязгом провисли, и медведь, покрутив косматой головой, пошёл прямо на него.
Пальцы не шевелились, хоть убей. С холодным страхом Ефим подумал, что и со здоровыми руками завалить мишку было бы непросто, а вот так… Но руки же поднимаются… в локтях гнутся… стало быть, не отсохли ещё, слава богу… Но что же из этого, господи?! Не локтем же этому дьяволу по башке бить? И дотянуться-то не успеешь… Он не успел больше подумать ни о чём: медведь кинулся вперёд. На Ефима навалилась мохнатая тяжеленная масса, лицо обожгло смрадом, и парень, задыхаясь, грохнулся спиной наземь. «Всё… – мелькнуло в голове сквозь острую боль и вонь. – Отбегался…» Тяжёлая лапа наотмашь ударила его по лицу, разрывая когтями кожу, рот наполнился солёной жидкостью, и в глазах завертелась тьма.
И вдруг – тяжкий гнёт свалился с Ефима. Свежим воздухом пахнуло в залитое кровью лицо. Раздался протяжный, полный муки рёв. Ничего не понимая, парень вскочил на колени, мазанул разодранным рукавом по глазам, стирая кровь. И – увидел медведя, неподвижной лохматой кучей лежавшего в двух шагах. И брата, спокойно и деловито вытаскивавшего вилы из медвежьего загривка, как из скирды сена. Струйка тёмной крови бежала по земле, огибая растоптанную кучу навоза. Ефим невольно отполз в сторону, и его затошнило.
– Вяжи! Вяжи! Ату их, вяжи! – вдруг раздался пронзительный вопль с крыльца. Братья разом повернули головы. Барин, босой, в разошедшемся халате, исступлённо топал ногами на верхней ступеньке крыльца, и грязная рубашка моталась над его коленями обтёрханным подолом.
– Вяжи! Вяжи их! Всех, канальи, запорю! Мер-р-рзавцы, что встали, крути их, ату!!!
Но мужики стояли как вкопанные. И тут Ефим очнулся окончательно. И впоследствии никак не мог понять, откуда только у него взялись силы. Каким-то вихрем его подняло с колен и бросило к крыльцу. Через мгновение Венедикт Модестович уже глухо хрипел, зажатый, как в тиски, локтем Ефима. Парень, будто куклу, перетащил его через жалобно хрустнувшие перильца. Грохнулось кресло, мелькнули в воздухе заросшие чёрным волосом ноги в стоптанных туфлях.
– Молчи, барин, – сдавленно посоветовал Ефим, волоча булькающего Венедикта Модестовича к распахнутым воротам. – Молчи, не то придушу ненароком… Антипка, что встал там, пошли! А вы, крещёные, только шаг за нами сделайте, – тут же шею ему, как курёнку сверну!
– Вот это правильно, – одобрил Антип, поудобнее перехватывая окровавленные вилы. – Ефим, пожди ты там, пособлю…
Волоча за собой барина, они вышли за ворота, на пустую дорогу. Вслед им летел испуганный гомон, но ни один человек не решился выйти, чтобы остановить парней. В небе всё ещё кричали гуси, начало капать дождём. Венедикт Модестович неожиданно забрыкался, захрипел с новой силой.
– Братка… держи борова этого… Упущу…
– Много чести – держать-то, – заметил Антип, замахиваясь огромным кулаком, – и барин кулём повалился на землю.
– Антип! – опешил Ефим, наклонившись и разглядывая опухшее, бессмысленное лицо у своих ног. – Да ты его… прикончил, что ль?!. Этого нам недоставало!
– Эх, кабы можно было… – с сожалением сказал Антип, опускаясь на колени и прикладываясь ухом к грязной рубашке на груди барина. – Чего ему, аспиду, сделается… Дышит, ничего. Вот, вилы держи, а я поволоку. За околицей бросим.
Ефим кое-как подхватил негнущимися пальцами вилы. Антип, кряхтя, взвалил на плечи бесчувственного Венедикта Модестовича, – и они продолжили путь.
– Давай в пруд сбросим, а? – умоляюще попросил Ефим, когда они проходили мимо полускрытого седыми, высохшими камышами деревенского озерца. – Нам теперь всё едино терять нечего, каторга платочком машет!
– Не… – пропыхтел Антип. – Хватит с нас и Упырихи…
– Этот хужей ещё! – убеждённо сказал Ефим. – Давай утопим, братка! Нам вся его дворня в ножки поклонится!
– Молчи у меня! Не то самого тащить заставлю! У леса бросим, я сказал!
Так и сделали. Недвижное, воняющее перегаром и мочой тело в мокром халате сбросили в колючие кусты ежевики и побежали в лес. В сыром воздухе отчётливо запахло гниловатой сыростью, замелькали рыжие камышовые кочки, болотная вода.
– Господи Иисусе! Водица! – Антип с размаху повалился на живот и жадно приник губами к тёмному оконцу среди мелкой ряски. С другой стороны так же жадно пил Ефим. Они долго лежали так, втягивая в себя холодную, благословенно вкусную воду, не в силах оторваться.
Первым опомнился Антип:
– Хватит, братка, всё! Всё, поспешать надо! Барина-то они вскорости найдут и опять на нас охоту учинят! Весь лес прочешут, расстараются! Уходить надо, дальше уходить! Охти, ни огня, ни кремня… Ещё волки съедят!
– Медведь не съел, и волки подавятся, – Ефим с неохотой оторвался от воды, выпрямился, одёрнул порванную в клочья рубаху. Антип внимательно посмотрел на брата, покачал головой.
– Чего ты? – озадаченно спросил тот.
– Ох, рожа у тебя… Всю как есть медведь порвал. На что теперича девкам глядеть?
– Да леший с ней, с рожей, – невесело усмехнулся Ефим. – До сих пор не верю, что жив-то остался. Вовремя ты с вилами доспел. Как ты только из верёвок выдрался?!
– Да так… Рванул – они и лопнули. Гнилые, видать, были. А вилы у дядьки дёрнул. – Антип озабоченно нахмурился. – Как руки-то твои? Чуют что-нибудь?
– Когда медведь на меня навалился – ничего не чуяли. – Ефим удивлённо осматривал руки, вертел кистями. – А как барина этого прижать пришлось – враз кровь подошла! И как это такое сделалось?
– Господь помог, – уверенно сказал Антип. И сразу же на его осунувшееся, грязное лицо набежала тень. – Таньку вот жаль.
– Жаль. Только вот с ней-то мы б не вырвались.
Антип внимательно посмотрел на брата. Медленно кивнул. И вставая, сказал:
– Нам теперь идти надо. Как хочешь, всю ночь идти, не останавливаться. У первой же деревни я путь спрошу. Благо, у меня рожа не такая рваная и рубаха цела: народ не испугается. Нам теперь до зарезу в Москву надо. Потому Устька, ежели жива, только туда и придёт.
– Всё сохнешь за ней? – в упор спросил Ефим.
Антип усмехнулся:
– Дурень ты родился, дурнем и сдохнешь… Идём, разбойничья душа!
– А сам-то?
Ответа не последовало. Серые полосы дождя накрыли облетевшие осины, туманом встали над лесом. Где-то в чаще тревожно, пронзительно закричала птица. Две оборванные тени пересекли болото и, ломая камыши, скрылись в мокрых кустах лещины.
Ясным октябрьским утром через Бутырскую заставу в Москву вошла горластая, оборванная толпа нищих с костылями и торбами. Бродяги весело переговаривались, показывали друг другу на золотые купола церквей, задирали чумазые лица к холодному солнцу, тянули руки к встречным людям, прося милостыни Христовым именем. Вместе с ними шла Устинья. Она ничем не отличалась от других нищих – только на лице её не было улыбки, а на лбу и висках крупными бусинами выступила испарина. Отчаянно кружилась голова; купола церквей дрожали и плыли перед глазами, незнакомые улицы расползались куда-то в стороны. Ноги были изранены в кровь. Сейчас, когда она уже добралась до вожделенной Москвы, не было сил даже порадоваться этому. Хотелось лишь одного: упасть вниз лицом в эту мёрзлую грязь, закрыть глаза и не открывать их больше никогда.
Устинья давно потеряла счёт дням и не знала, сколько времени прошло с того утра, когда дед Пахом вывел её на пустую дорогу, ведущую к Москве. Тогда ей казалось, что все невзгоды и мучения позади, – стоит только идти и идти по этой широкой дороге, сигая, впрочем, в кусты при каждом услышанном стуке колёс. К тому же впервые за много-много месяцев Устя не была голодна, и от одного этого словно крылья вырастали за спиной.

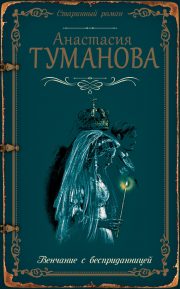
"Венчание с бесприданницей" отзывы
Отзывы читателей о книге "Венчание с бесприданницей". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Венчание с бесприданницей" друзьям в соцсетях.