Что-то твёрдое вдруг ткнулось ей в грудь. Это был край рукописи отца Никодима, неловко засунутой за рубаху. Устинья не сразу сумела вытащить свёрток: исцарапанные руки не слушались, не гнулись. Затем она всё же кое-как извлекла обтрёпанные листы, принялась медленно разглаживать их на коленях.
«Надо идти. Хоть сдохни, надо идти… Коль не я, то кому ж? Всех взяли, даже Ефима… Что с ними будет теперь? В каторгу. Верно Ефим говорил… А с нашими-то, с нашими деревенскими что сделается? С болотеевскими, с рассохинскими… До барина идти надо, хоть помри… А куда идти, как?! Господи, и ноги ведь не держат… И нутро крутит… Господи, как же болит-то всё… Нет, надо идти, как угодно надо! Хоть бы в поле выйти, там волки не подойдут… Да поднимайся же ты, колодища! Стоило столько промучиться, чтоб у волка в брюхе со святыми упокоиться!» Что она будет делать после того, как выберется из леса, Устя думать уже не могла. Давясь слезами, ругаясь сквозь зубы, она схватилась за сосновый ствол и кое-как поднялась на ноги.
Куда ей идти, Устинья не знала: лес был незнакомым. Вокруг, как стены, возвышались толстые сосны, затянутые понизу туманом. Впереди ей показались просветы между деревьями, и Устя побрела на этот свет. Однако вскоре оказалось, что за просветы она приняла белые стволы березняка, сменившего сосновый бор. Испугавшись, что, двигаясь и дальше наугад, Устинья лишь углубится в чащобу, девушка бессильно остановилась посреди затуманенной поляны. Отчаяние, отогнанное было, снова стиснуло сердце.
«Не выть! – яростно приказала себе Устинья, сжимая под рубахой драгоценную рукопись. – Что ты – барышня, леса испугалась? Ну и что, что чужой! Дерева-то по всей губернии одни и те же! Коли сосняк кончился да березняк начался – стало быть, и поле близко! Двум смертям не бывать, а одной не миновать! Ну, волки сожрут, ну и что?! А могла бы под кнутом подохнуть – лучше, что ли?! И с голоду не помрёшь, только вчера грибы трескала!»
Подбодрив себя таким образом и стараясь не обращать внимания на сгустившийся под ветвями мрак, Устинья зашагала куда глаза глядят. Под ногами хрустел валежник, какая-то птица бесшумно пролетела мимо, почти мазнув Устю мягким крылом по лицу. Сумерки неумолимо сгущались, и в конце концов путницу обступила кромешная темнота. Луны не было. Устинья споткнулась в потёмках о вывороченный корень, зашипела от боли и беспомощно остановилась. Прислушалась. Лес стоял тёмный, глухой, безмолвный. Устинья слушала долго, но ни шороха, ни звука не доносилось из чащи. Нащупав рядом с собой шершавый сосновый ствол, Устинья опустилась на усыпанную сухими иголками траву под ним, прислонилась к дереву. «Туман… – подумала она, против воли проваливаясь в сон. – Туман… Не увидят, не найдут».
Она проснулась на рассвете от холода. Всю поляну словно затянуло снятым молоком: туман доходил чуть не до макушек высоких сосен. Мокрая хвоя скользила под руками, колола пальцы. Вся дрожа, ругаясь сквозь зубы, Устинья встала, осмотрелась, но в сплошной белёсой пелене ничего было не разглядеть. Ничего не поделаешь, нужно было ждать, пока не сойдёт туман. С досадой вздохнув, Устя обхватила себя руками, чтобы хоть немного согреться, привычно ощупала бумаги за пазухой. Усевшись обратно на сырую кочку, попыталась думать о дороге на Москву, но мысли волей-неволей возвращались всё к одному и тому же.
Ефим… Ефим, Ефимка, разбойник бессовестный, лешак зеленоглазый… Бесстыжие очи, сильные руки, плечи крепкие, как сосновый сруб… Где ты сейчас, жив ли? Свидимся ли ещё? Глотая слёзы, Устинья вспоминала их единственную ночь – тёмную ночь на болоте. Сучки, колющие спину, жаркое мужское дыхание, тёплые губы… То, что Ефим, задыхаясь, шептал ей сквозь поцелуи, собственное изумление: свят-господи, и откуда в нём это, где он словам таким выучился? Может ведь, умеет, анафема, и кто бы только подумать мог… Слёзы вдруг хлынули ручьём, и Устинья разревелась в голос, колотя кулаком по мокрой хвое и мотая растрёпанной головой. «Пропали… Ни за грош пропали, и он, и я… И Танька с Архипом… Что делать теперь, куда идти? Как добираться до этой Москвы проклятой?»
И вдруг острая, горячая мысль пронзила голову, словно гвоздь. Мгновенно высохли слёзы, и Устя чуть не задохнулась от ясного осознания того, что лишь на Москве, только в доме барина они с Ефимом смогут встретиться вновь. Если Господь явит чудо и Ефим вырвется от своих поимщиков – куда он пойдёт? Где будет искать свою невенчанную жену?! Вот то-то! Стало быть – в путь! В дорогу – любой ценой! Как угодно добраться до неведомой Москвы, отыскать барина… А там будь что будет! Эта новая мысль подбодрила Устю настолько, что она решительно встала и зашагала по лесу наугад. Время от времени она останавливалась и принюхивалась. Сыростью тянуло отовсюду, но наконец Устинье удалось уловить пробивающуюся сквозь влажные запахи знакомый острый и свежий, с чуть заметной сладинкой дух. И она пошла на него, почти не глядя под ноги и чутко прислушиваясь к ранней тишине вокруг.
Чутьё не обмануло Устю: через несколько минут она вышла к небольшому болотцу со ржавой водой, густо заросшему по берегам татарником. Ни одна другая лесная трава не пахла по осени так свежо и сладко. Устинья, ахнув от радости, кинулась ломать уже подвядшие, но всё ещё упругие и хрусткие у основания стрелы. Ещё в Болотееве она привыкла рвать эту болотную траву охапками и угощать ею сестрёнок и подруг. Теперь же белые сахарные корневища показались ей манной небесной, и, нажевавшись их вволю, Устя с облегчением вздохнула.
Туман между тем начал рассеиваться, и ранние лучи солнца потянулись между деревьями. Вверху, над кронами сосен, блёкло голубело небо. Осмотревшись, Устинья увидела вдалеке белые стволы и золотистую листву березняка. Она решительно зашагала туда. Перед тем как пускаться в путь, не мешало бы надёргать грибов в дорогу.
Подберёзовиков оказалось великое множество: они выглядывали из жухлой травы влажными коричневыми шляпками, сами просясь в руки. Устинья набрала полный подол, горько усмехаясь про себя: как бы ещё вчера они все обрадовались такой добыче, какую густую похлёбку можно было сварить в котелке, который теперь незнамо где… «Посушить бы их, да где время взять?» Подоткнув подол и прихватив с собой ещё целую связку болотного татарника, Устинья вновь зашагала наугад. Она надеялась наткнуться на просеку или тропинку, ведущую к деревне. Хочешь не хочешь, нужно было у кого-то спрашивать дорогу на Москву.
Идти пришлось долго. Солнце уже стояло высоко над маковками сосен, давно растаял туман, а Устинья всё шла и шла через незнакомый лес. Ноги начинали ныть, в животе привычно кололо от голода, а вокруг были всё те же сосны, ели и осины. Поглядывая на солнце, чтобы не начать кружить, Устя уже с тревогой думала о том, что этак можно идти и день, и три, не наткнувшись на человеческий след. Из чащи неожиданно ухнул филин, и страх пополз за ворот холодной струйкой: Устя знала, что филин селится только в совсем уж непролазных, лешачьих местах. «Ну и что? – подбодрила она себя. – Надо будет – и день пройду, и два, и неделю! Всё едино – кончится же лес когда-нибудь! Главное – кругов не делать, так на то и солнце в небе!» Однако тревога не отпускала, и ещё через два часа пути Устинья начала поглядывать по сторонам: не найдётся ли подходящего дерева, чтобы вскарабкаться на него и осмотреться.
Наконец дерево нашлось: невесть откуда взявшийся посреди ельника, давным-давно жёлудем занесённый сюда старый дуб с потрескавшейся корой. Нижние его ветви почти стелились по земле, усыпанной желудями. Устинья бережно сложила под дубом свои пожитки. Оставить бумаги отца Никодима она не решилась и лишь потуже перетянула поясок, чтобы бесценный свёрток не выпал из-под рубахи.
Устинья поднялась до самой середины могучего ствола, устроилась в развилке и раздвинула упругие ветви с уже пожухшей бронзовой листвой. И, всплеснув от радости руками, чуть не свалилась с дерева: впереди лес заметно редел, ельник сменился березняком, а дальше и вовсе чернела полоса поднятой под озимь пашни.
«Коль пашня, так и люди недалече! – Устинья кубарем скатилась с дуба, забыв и об усталости, и о голоде. – Коль живут да землю пашут, стало быть, и грибы с орехами собирают, самое время сейчас! Хоть кого в лесу дождусь и про дорогу выспрошу! Авось не выдадут, души-то христьянские…»
Наспех подобрав грибы и охапку травы, она споро зашагала через редеющий ельник и через полчаса оказалась среди берёз, окружавших далеко вдающийся в лес клин пахотной земли. Устинья осторожно огляделась. Блёклый день уже перевалил на вторую половину, но пашня была пуста. Рядом не виделось ни одного человека. Однако, напрягая слух, Устя услышала едва различимый вдали крик петуха. «Деревня, значит, близко! Что ж так пусто-то? Грибов-то тьма… Не собирают, что ль, сыты через край?»
Некоторое время Устинья напряжённо думала. Очень велик был соблазн подойти ближе к деревне, постучаться в хату и, попросив Христа ради, заодно вызнать и дорогу на Москву. Но, поразмыслив, Устя так и не решилась на это. Кто знает, что за народ здесь… Верно, лучше посидеть до завтра возле пашни и дождаться хозяина, который наутро непременно придёт допахивать: кто же бросает дело на полдороге? Ободрённая собственной разумностью, Устя отошла в кусты лещины. Очень хотелось есть, и она храбро сжевала несколько сырых подберёзовиков, закусив сладковатым татарником и надёргав с кустов орехов. Животу стало совсем хорошо, и Устю отчаянно повело в сон. С беспокойством подумав о том, что вовсе не след засыпать так близко от людей, девушка встала, чтобы отойти поглубже в лес… и вдруг застыла. В нескольких шагах от неё послышалось сердитое пыхтение. Вскоре из кустов выдвинулся зад, обтянутый коричневой потрёпанной юбкой. Сомнений не было: кто-то ползал по поляне, ворча и собирая грибы. Мгновение Устинья колебалась. Затем чуть слышно позвала:
– Тётуш… Тётуш! Христа бога нашего ради!
Тётка обернулась, и на Устинью уставились вытаращенные от испуга глаза. Над поляной повисла тишина: Устя боялась даже шевельнуться. Наконец она вполголоса сказала:

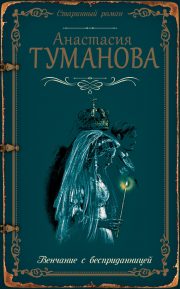
"Венчание с бесприданницей" отзывы
Отзывы читателей о книге "Венчание с бесприданницей". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Венчание с бесприданницей" друзьям в соцсетях.