– Пани не любит праздников?!
– Не люблю, уж простите, – со вдохом сказала она. – Вы знаете, я из небогатой семьи, и таких оглушительных приёмов маменька никогда не могла закатывать. Так что у меня никакого опыта в подобных увеселениях, даже в качестве гостьи. А уж как хозяйка, верно…
– Вечер прошёл великолепно, – утешил Команский. – Стась, если бы был жив, остался бы доволен. Уж он-то знал толк в приёмах и балах. Особенно фейерверк был хорош!
– Ну, тут уж вся честь не мне, а Серёже, он этим занимался. Меня, по чести сказать, более волнуют другие вопросы. Вы, пан Команский, пшеницу уже продавали?
– Ещё нет, но после Покрова повезу. А у вас с этим затруднения?
– Ещё какие! Мне тут доложили, что купец Долгополов, которому покойный Станислав Георгиевич пятнадцать лет продавал, вдруг отдал богу душу! А наследники гуляют вовсю в Петербурге и слышать ничего ни о каких продажах не хотят. Теперь поневоле надо искать другого покупщика, а что же я в этом смыслю? Покуда найду, триста пудов, чего доброго, сгниют в амбарах! Тем более что пшеница удалась на славу, у меня двадцать пудов с десятины взято, и…
– Ну, не стоит вам этим беспокоиться. Я всю жизнь продаю Селивёрстовым в Гжатске, если желаете – они и у вас возьмут. Завтра я еду в уезд, заодно и договорюсь.
– Буду вам очень благодарна! – с облегчением сказала Вера. – А жито они взять не захотят?
– Спрошу и об этом. Кстати, если у вас будут холсты – один купец в том же Гжатске скупает по сносной цене. Но качества требует отменного!
– У нас холсты хорошие! – обрадовалась Вера. – О, если бы и это можно было устроить, тогда и лес продавать не надо! Пусть лучше в Загорихине отстраиваются! У нас ведь, как вы слыхали, вероятно, пожар был, четыре двора дотла выгорели, а зима на носу, и…
Команский негромко рассмеялся. Вера умолкла, озадаченно взглянув на него.
– Как пани умудряется справляться с таким огромным хозяйством? – спросил он, улыбаясь. – Стась, уж на что был опытным хозяином, и тот с ног сбивался, а вы… Насколько я знаю, вы и в деревне-то не жили никогда?
– Право, я сама не знаю, как справляюсь, – честно ответила Вера. – Временами мне кажется, что всё разваливается у меня в руках, дети будут разорены, а я не сдержу слова, данного Станиславу Георгиевичу…
– Он не имел права брать с вас такого слова, – вдруг резко сказал Команский, и светлые глаза его похолодели. – Он должен был понимать, что делает.
– Мне кажется, у него не оказалось выбора, – возразила Вера. Она постаралась не показать своего изумления, вызванного неожиданным тоном Команского и тем, что тот слово в слово повторил сказанное накануне братом Мишей. – Близких родственников, насколько я знаю, у Станислава Георгиевича не было, а я… На мой счёт он, по крайней мере, был уверен, что я всё сделаю для его детей… и сдержу слово. К тому же мне здесь многие помогают… Вы, например.
Команский шутливо раскланялся.
– Всегда счастлив помочь прекрасной пани! Кстати, это верно, что вы школу для крестьян намереваетесь открыть?
– Уж и не знаю, ей-богу, когда руки до этого дойдут, – задумчиво сказала Вера. – Но сделать это необходимо. Среди крестьян множество способнейших людей! Посмотрите хотя бы на художника Зосимова и его дочь. Невежество душит их, губит… С нашей стороны нужно так немного, чтобы помочь им выбраться из этой ямы! Я считаю, что мы просто обязаны это сделать, коль уж находимся в ответе за этих людей… Пан Команский, что говорят в губернии? – внезапно перебила она себя. – Это правда, что скоро дадут волю?
Некоторое время Команский молчал, поглядывая на стога, теряющиеся в сером тумане вдали.
– Насчёт «скоро» ничего обещать не могу, – медленно сказал он наконец. – Скоро в России ничего не делается, но… думаю, что ничем другим кончиться не может. И так уж затянули до невозможности. Боюсь только, что ничего, кроме новых бед, и нам, и мужикам, от этого не выйдет.
– Но… отчего же?
– А земля-то, пани Вера? Мужикам воля без земли не нужна, это хоть кого спросите! Мои вон и слышать ничего не хотят. Гудят: «На што та воля, коли землицу отберут?»
– Странно… Ваши ведь живут неплохо, хозяйства справные, не голодают…
– Как раз потому, что моя земля им ничего не стоит, кроме трёх дней барщины. А представьте, что они станут свободными, – то есть я, как помещик и господин, никакой ответственности за мужиков уже нести не стану. А все мои двести десятин в этом уезде останутся в моём пользовании. Что я должен буду делать, как разумный хозяин? Назначать арендную плату в том случае, если отдам землю в пользование мужикам… Либо нанимать в работники тех же мужиков. А какой мне резон платить им деньги, если гораздо выгоднее использовать их труд в качестве платы? Получается та же барщина, выгодная и мне и им, поскольку живых денег у мужиков отродясь не водилось… И всё вернётся на круги своя.
– Но… ведь это получается бессмысленно и нечестно! – пожала плечами Вера. – Начнутся волнения, бунты, особенно в хлебных губерниях… Правительство обязано найти какой-то выход! Возможно, нарезать мужикам землю бесплатно, хотя бы небольшие наделы, а там…
– Кто же на это согласится, пани Вера? – усмехнулся Команский. – Полагаете, хоть кто-нибудь из наших с вами соседей проникнется положением собственных мужиков настолько, что будет отдавать им свою землю? Свою собственную землю, с которой они испокон века имели доход? Никто на это не пойдёт, уверяю вас… И вы, между прочим, не пойдёте тоже. Потому что раздать крестьянам землю означает значительно ущемить в доходах падчерицу и пасынков. Вряд ли это окажется достойным выполнением завещания Стася. Не так ли?
– Да… – растерянно сказала Вера. – Вы правы…
– А государю императору тоже весьма неудобно настраивать против себя землевладельцев, это весьма мощная сила в государстве. Поэтому я и говорю, что правительство ещё долго будет тянуть с вопросом о воле… которая никому не нужна без земли.
Наступило молчание. Вера, хмурясь, смотрела в затянутое низкими облаками небо. Команский, идя рядом, изредка поглядывал на озабоченное лицо молодой женщины, чуть заметно улыбался.
– Посмотрите, как далеко мы с вами забрались, рассуждая о мужицких судьбах! – заметил он, вглядываясь вдаль. – Вон уже мои Ставки видно! Давайте-ка забирайтесь в дрожки, и я отвезу вас к вашим гостям. Верно, уж ищут хозяйку!
– А вы что же, пан Команский? Не останетесь?
– Рад бы, да не могу! У меня ещё много что на сегодня задумано, – Команский сделал знак следовавшему за ними экипажу остановиться и протянул руку Вере, помогая ей забраться в дрожки. – А на днях, если пани позволит, заеду и расскажу, куда вам везти пшеницу. И холсты, если Крючников в Гжатске согласится. Да – и если Самойленко будет к вам опять приставать, чтоб вы ему лес за Загорихиным продали, – шлите его к дьяволу! Он, чёртов сквалыга, четверти настоящей цены вам не даст, а лес хороший! Лучше лет через пять, когда он ещё больше разрастётся, взять с него вполне.
– Пан Команский, право, не знаю, что бы я без вас делала! – искренне сказала Вера, сидя в мягко катящихся по дороге дрожках. – Мне вас сам бог послал, спасибо!
– Ну, пани слишком добра… – Команский, казалось, был смущён. – Как я мог вам не помочь, если Стась просил меня об этом… а мы с ним, слава богу, три войны прошли вместе! Да и, кроме того…
Он недоговорил, запнувшись, словно вспомнив о чём-то запретном. Вера не переспросила, глядя в седую отуманенную даль и думая о своём.
Уже у самых Бобовин Команский заговорил снова:
– Пани Вера, те книги, которые вы просили, мне прислала с оказией сестра из Петербурга. Я буду счастлив завезти их вам на днях. И все толстые журналы Ядвига для меня скупила, поскольку, покуда они дойдут до вас почтой…
– Как замечательно, благодарю вас! – обрадовалась Вера. – Это такой драгоценный подарок для меня! Но зачем же вам самому трудиться? Я пришлю к вам Якова, он всё заберёт и…
– Не лишайте меня удовольствия лишний раз увидеть вас.
Это было сказано обычным мягким и шутливым тоном, которым Команский всегда говорил с Верой. Но какая-то незнакомая нотка, проскользнувшая в его голосе, заставила Веру вздрогнуть и внимательнее взглянуть на мужчину напротив. Светлые глаза из-под густых сросшихся бровей смотрели на неё в упор. Но Команский больше ничего не сказал. Он слегка коснулся руки Веры губами и мягкими усами, коротко поклонился и вскочил в дрожки. Вера, стараясь побороть нахлынувшее смятение, быстро пошла через пустой сад к дому.
«Господи, только этого недоставало… Только этого мне не хватало! Нет, не может быть, мне показалось… Да что я, господи, – наша Александрин, чтобы мне чудилось мужское внимание там, где его и следа нет?!. Что за чушь, право же… Обычная вежливая болтовня, обычные комплименты, он всем их говорит, дамы от него без ума… Книги вот привезёт, как чудесно! Но никому другому Команский книг не возит… Так ведь их больше никто и не читает! Во всём уезде, кажется, только я и он, и то надо мной все кумушки смеются. Ему интересно поговорить со мной, я – вдова его покойного друга, он чувствует себя обязанным помогать мне… Только и всего! А мне лезут в голову глупые бредни… Скоро стану такой же, как все окрестные гусыни!»
Неожиданно новая, тревожная мысль поразила Веру так, что она почувствовала озноб на спине и остановилась у заросшей клумбы с георгинами так резко, словно у неё внезапно отказали ноги.
«Бредни?! А когда твой покойный муж открыл тебе, что три года был в тебя влюблён, а ты этого даже не замечала, – это тоже были бредни?! Любая дурочка, та же Александрин, с лёту обо всём бы догадалась, – а мадемуазель Иверзнева думала лишь о том, какое замечательное у неё жалованье и как чудно к ней относятся в доме! А мужских знаков внимания барышня не видит, они для неё – тьфу, пустяки! И чем всё кончилось, дорогая моя? Нелепым, тяжёлым замужеством, вдовством, связавшим тебя к тому же по рукам и ногам! А Никита, Никита?! Боже мой! Ведь всё то же самое, всё было то же самое! Мишка говорит, что он был влюблён в меня с первого дня, жил только мною, а я… Я разве видела, понимала это?! Ни разу за столько лет не дала ему даже возможности поговорить, объясниться, всё обращала в шутку… Да для тебя это и было шуткой! Бессмысленный «синий чулок», учёная барышня с книжкой! И чем всё закончилось?! Ты – вдова, связанная словом ещё на много лет! Он – пропадает один, опускается… Ты не смогла даже написать ему, не смогла объяснить… И что теперь? Снова ничего не видишь? Снова долбишь сама себе, что Команский попросту любезен и вежлив? Чёрта с два!»

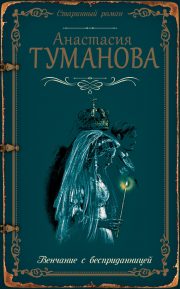
"Венчание с бесприданницей" отзывы
Отзывы читателей о книге "Венчание с бесприданницей". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Венчание с бесприданницей" друзьям в соцсетях.