Я набрала рабочий номер и сказала автоответчику, что у меня больничный. Стала собирать сумку. Белье. Джинсы. Куртка. Мыло. Из холодильника кинула бутылку водки, батон колбасы. Я чувствовала, что совершаю безумство, но не большее же, чем то, которым сейчас объят мир? Противиться себе я была не в силах. С телефонного справочника списала адрес МЧС. Все эти дни ТВ галдело, что с эмчеэсовцами летают в Югославию журналисты. Жуткий, животный страх за Костю гнал меня к месту беды. Телефон истерично, так, как звонит обычно межгород, заверещал. Я схватила трубку — ошиблись номером.
На что я надеялась? Не знаю. МЧС встретило меня пустыми коридорами, по комнатам сидели благообразные, ухоженные девушки, и от несовместимости моего состояния и их благополучия мне стало совсем тоскливо. Я так и не решилась у них ничего спросить. На выходе охранник все так же читал газету.
— Скажите, а где тут журналисты в Югославию собираются? — наконец набралась я смелости.
Он охотно, многословно объяснил мне про Раменское и про то, что самолеты идут оттуда.
На мое счастье, когда я прибыла на место, у КПП уже собралась большая группа газетных журналистов, важных телевизионщиков, фотокоров, увешанных «Никонами» и огромными, похожими на подзорные трубы, объективами. Здесь были только мужчины — многие навеселе, ненормально возбужденные, собравшиеся «на войну». Громко строились разные предположения — о том как и когда мы полетим, будут ли в пути опасности и чего ждать от Милошевича. Вскоре ворота разъехались и всех нас, скопом, не проверяя документов, впустили на территорию. Мы расположились в казенном зальчике, телевизионщики, сбившись в плотные группки, пили, шум нарастал. Я тихо сидела в углу. Куда я лечу? Зачем?
— Бортов сегодня не будет, — молоденький парнишка в эмчеэсовской спецовке одной своей фразой сразу установил тишину в комнате. — Самолет переполнен: лекарства и продовольствие везем. — Телебратия возмущенно загалдела, закричала. — Спокойно, товарищи, — осадил их эмчеэсовец и важно, значительно добавил:
— Нашим везем. Вас всех доставим в город, не беспокойтесь. Транспорт у КПП. Подача заявок на послезавтра в прежнем порядке. Прошу на выход.
Журналисты, возмущаясь, подхватив треноги, камеры, баулы, повалили к выходу, ругая бардак в стране в целом и в МЧС в частности. Я затаилась.
— Прошу! — повторно указал мне на дверь молодой эмчеэсовец. Я отрицательно, быстро-быстро замотала головой.
Он пожал плечами и вышел вслед за толпой.
Сидела в углу, держала на коленях сумку. Зальчик был проходным, то и дело через него шли рабочие в тяжелых сапогах, фуфайках нараспашку, шли пилоты и техники, громко матерясь, туда-сюда сновали бело-голубые, в неуклюжей спецодежде, эмчеэсовцы. Никому до меня не было дела. Я поднялась и двинулась туда, откуда доносился шум самолетов. Летное поле оказалось совсем рядом. Красные огоньки. Ветер. Я не решалась идти дальше. Стояла у кромки.
— Что вы тут делаете? — вдруг ужаснулась проходящая мимо женщина в летной форме. — Почему вы на поле?
— Я журналист, — уверенно сказала я, — за день я уже привыкла к этому слову, и оно для меня совершенно потеряло ореол романтичности.
— Ну так идите к Соболеву! — удивилась женщина моей бестолковости.
— Где это?
Она неопределенно махнула рукой влево, а я ухватилась за эту фамилию, и не было теперь во всем мире мне человека нужнее, чем таинственный Соболев.
Я нашла его в крохотном кабинетике, заваленном техническим хламом, бумагами; по полкам стояли модели самолетов, за спиной у Соболева висела казацкая сабля. Это был грузный, здоровый мужик в пятнистом хэбе, в мятом военном кепи, с темными рабочими руками. На погонах — две подполковничьи звездочки.
— Что еще? — рявкнул он, когда я чуть приоткрыла дверь. Но стоило мне появиться полностью, он сменил гнев на милость: — Извините, я думал кто из наших. — Он даже встал из-за стола. — Чем могу служить?
Я сбивчиво объяснила, что я из журнала «Бетон» (это было единственное издание, к которому я была причастна — два года назад там вышла моя статья об арматуре), и что мне надо в Югославию, и что мне посоветовали обратиться к нему.
Он посмотрел на меня как на сумасшедшую:
— Так ведь бортов нету! Я давно сказал!
— Но мне надо! — заупрямилась я.
— Девушка, — начал раздражаться он, — вы не находите свое поведение странным?
Я без приглашения села на дряхлый деревянный стул и горько, в голос, заплакала. От усталости и страха. Дверь за мной испуганно приоткрылась, Соболев кому-то показал кулак, дверь еще испуганней хлопнула.
— Ну и денек… — выдохнул он. — Нате, лицо приберите. — Он протянул мне несколько листов чистой бумаги. — Ад, а не денек… Быстро выкладывайте, в чем дело, — напугал он меня, — или я вызову караул!
А что выкладывать? Что я люблю Костю? Что я боюсь за его жизнь? Что мне хочется его защитить? Что я просто соскучилась и что я обязана сопротивляться разлуке, сопротивляться смерти и даже сопротивляться жизни, если в ней столько жестокости?!
Об этом и о многом другом я рассказывала Соболеву, торопясь и хлюпая.
Он понял меня.
— Хорошо. Место я тебе найду, ты легкая, это не проблема. Мы летим до Будапешта, но в Белград ты доберешься и Костю, почти уверен, найдешь — при таком характере. А что дальше? Ведь ты его по рукам-ногам свяжешь! За себя отвечать — полдела, а за тебя — волнуйся! Каково?! И все из-за бабского каприза. Сегодня Югославия — еще полуромантическая прогулка, а что завтра будет?! Мы же не знаем… Вернется он, обязательно вернется, — заторопился он меня успокоить, — и думаю, скоро. Сын у меня, Славка, тоже там. — Я недоверчиво подняла на него глаза. — Первой тебе говорю, даже наши не знают. От судьбы не уйдешь, а чему быть, того не миновать.
Я присмирела, молчу. Соболев, конечно, прав.
— Через час я еду домой, подброшу тебя, — говорит он. — Жди меня в зале.
…Мы мчим в ночи, окруженные красными глазами стоп-сигналов. Какая она темная, эта ночь, какая одинокая и беспросветная! На мгновение я чувствую, как все, что меня окружает, и все, кто мне дороги, в ком моя жизнь, за кого я отвечаю и для кого живу — мои старенькие родители, Артем, Костя, — все меня оставляют одну перед ужасом этой темной ночи, которой никогда не будет конца. Это состояние длится лишь мгновение, но как тяжело его пережить! Наверное, это и есть уныние. Или неверие. Разве можно поверить, что эта ночь кончится, что весна настанет, что надежды сбудутся и что любовь победит? Не в вечных, высоких смыслах, а в твоей единственной, маленькой, обычной жизни, которая вовсе и не должна отражать общие закономерности. Она, эта жизнь, лишь отражает общую беду. И пока я не знаю, как с ней справиться…
Соловей
«Со-а-ло-вей мой, со-а-ло-вей, голосистый соловей», — пела со сцены артистка. Зальчик был маленький — мест на сто — сто пятьдесят, сцена невысокая, и певица обходилась без микрофона. Мы сидели в последнем или предпоследнем ряду, и сцена виделась хорошо — народу в зальчике было немного. Но публика собралась внимательная, слушающая.
Певица была красива — статная женщина в концертном декольтированном платье, с прической из девятнадцатого века. Она, по-видимому, только начинала выступать — движения ее были не всегда естественны, интонации часто чужими. Она пела широко и старательно, и ей, конечно, до соловья еще было далеко. Но на меня вдруг накатила горячая волна, слезы побежали по щекам.
— Могла бы и поумней петь, — тихонько шепнул ты мне. — Да.
Но ты уже заметил мои слезы и смягчился:
— Но она неглупая. Учится еще.
— Да, толк будет.
Так мы переговаривались чуть слышно, звучал «Соловей», потом другие романсы; но, конечно, плакала я не из-за певицы. Я переживала одно из счастливейших мгновений в своей жизни и оттого не могла сдержать слез. Счастье было в том, что ты был рядом, совсем рядом, слева от меня, в соседнем кресле; что я видела твой профиль, такой родной, красивый; что я, если бы захотела, могла дотронуться до твоей руки, прижаться к твоему плечу; счастье было в том, что я тебя любила, давно, счастливо и взаимно; и все же наше чувство было наполнено почти ежедневным страданием, ожиданием трагедии, той трагедии, которой всегда кончается человеческая жизнь; и пусть от этого было мучительно, неуютно, все же ожидание заставляло нас ценить каждую минуту, проведенную вместе, каждый день нашей любви. И вот, когда все это сошлось: тихий вечер, зальчик — почти пустой, певица, «Соловей», мы — рядом, я заплакала. Так, будто ты вернулся с войны, и я уж не чаяла тебя увидеть, и вот, пожалуйста, мы мирно слушаем камерную музыку. Мы пережили трудное время, зиму, о которой договорились больше никогда не вспоминать. Время это больше, чем какое-либо, было наполнено ожиданием и страданием, ежедневным, физическим, и то, что теперь все миновало, что мы можем быть вместе, меня как-то особенно потрясло, выбило из колеи.
Я говорю все это о себе не из-за эгоизма, а из-за того, что о тебе я вообще ничего не смею говорить. Иногда я даже страдаю из-за того, что ты меня любишь. Да-да! Вот и тогда, в зальчике, я вдруг закручинилась, что я не так красива, как эта статная певица, что, обнажи мои плечи, они не были бы так плавно-белы, хотя — тут я не стала впадать в самоедство — и у меня плечи по-своему хороши; я пожалела, что у меня совсем нет голоса и я никогда не спою тебе «Соловья». Пусть ученически-старательно, скованно. Закончились мои размышления тем, что если не спеть, то рассказать о нашей любви я просто обязана.
Но что я могу рассказать?! Я, которая много раз говорила тебе, когда мы оставались наедине, вдвоем:
— Знаешь, все литературные произведения, кино, живопись о любви — обман или ложь!

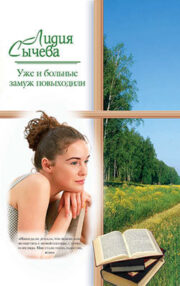
"Уже и больные замуж повыходили" отзывы
Отзывы читателей о книге "Уже и больные замуж повыходили". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Уже и больные замуж повыходили" друзьям в соцсетях.