Однако, не довольствуясь тем, что ты предал ее пламени, и, видимо, опасаясь, чтобы я не устремилась ей на помощь, ты вошел к ней и поразил ее ударом кинжала. Я видела ее, всю залитую кровью, и я сказала себе: человек, нападающий на сильных, велик, ибо он храбр; человек, способный раздавить слабого, достоин презрения, ибо он трус. Я оплакивала твою жену и над телом ее поклялась, что в тот день, когда ты вздумаешь обойтись со мною как с ней, смерть ее будет отомщена.
Однако я видела, что ты страдаешь. Я поверила твоим слезам и простила тебя. Я последовала за тобой в Венецию, я была тебе верна и предана, как собака — тому, кто ее кормит, как конь — тому, кто его взнуздал. Я спала на полу, на пороге твоей комнаты, как пантера у входа в пещеру, где ютится ее потомство. Я никогда ни с единым словом не обращалась к кому-либо, кроме тебя. Я никогда не издала ни единой жалобы и даже взглядом ни разу тебя не упрекнула. У себя во дворце ты собирал своих сотоварищей по распутству, ты окружал себя одалисками и плясуньями. Я сама подавала им угощение на золотых блюдах и наполняла их кубки вином, которое закон Мухаммеда запрещал мне подносить к своим губам. Я принимала все, что тебе нравилось, все, что представлялось тебе необходимым и приятным. Не для меня существует такое чувство, как ревность. Впрочем, мне казалось, что, переменив одежду, я переменила и свой пол. Я считала себя твоим братом, сыном, другом и была счастлива — только бы ты относился ко мне доверчиво и дружелюбно.
Ты захотел жениться вторично и напрасно скрыл это от меня. Я уже знала ваш язык, хоть ты и считал, что мне никогда ему не научиться. Я знала все, что ты делал. Я никогда не воспрепятствовала бы твоему намерению. Я бы любила и уважала твою жену, служила бы ей, как законной своей госпоже, ибо про нее говорили, что она такая же красивая, целомудренная и кроткая, какой была первая. А если бы она оказалась коварной, если бы она пренебрегла своим долгом, затеяв против тебя заговор, я помогла бы тебе умертвить ее. А ты боялся меня и свою новую любовь окружал оскорбительной для меня тайной. Но я только наблюдала, ни слова тебе не говоря.
Твой враг возвратился. До того я видела его только один раз, у меня не могло быть к нему ни любви, ни ненависти. Но я скорее всего склонна была бы уважать его за храбрость и его несчастья. Однако он вынужден был прогнать тебя от своей сестры, обвинить тебя и хотел погубить, а я поэтому вынуждена была избавить тебя от него. Ты велел мне найти какого-нибудь bravo 13, чтобы его убить. Я же могла довериться только себе, и я попыталась сделать это сама. Я нанесла удар слуге вместо хозяина, но это был такой удар, на какой ты-то сейчас уже не способен, ибо совсем раскис и ослабел и постыдно дрожишь за свою жизнь. Вместо признательности за это новое преступление, которое я совершила ради тебя, ты оскорблял меня бранными словами и даже поднял на меня руку. Еще мгновение — и я убила бы тебя. Мой кинжал к тому времени еще не остыл. Но после того, как первый порыв гнева прошел, я сказала себе, что ты человек слабый, истасканный, растерявшийся от страха смерти. Мне стало жаль тебя, и, зная, что мне все равно грозит смерть, потеряв всякую надежду и всякое желание жить, я не стала тебя обвинять. Меня пытали, Орио! А ты так этого боялся, потому что думал, что пыткой у меня вырвут правду. А я не сказала ни слова. И в награду за это ты вчера пытался меня отравить. Вот почему я сегодня говорю. Я все сказала.
С этими словами Наам встала, бросила на Орио один лишь взгляд — но он был как сталь — и затем обратилась к судьям:
— Вы же теперь дайте мне скорую смерть. Это все, чего я прошу.
Воцарилось ледяное молчание, казавшееся одним из установлений этого страшного трибунала; его нарушал только один звук — то стучали от страха зубы Соранцо. Морозини сделал над собой величайшее усилие, чтобы выйти из оцепенения, в которое поверг его этот рассказ, и обратился к доктору:
— Есть ли у этой девушки какие-нибудь доказательства убийства моей племянницы?
— Знакомо ли вашей милости вот это? — сказал доктор, подавая адмиралу бронзовый ларчик художественной работы, на котором выгравированы были имя и герб Морозини.
— Я сам подарил его племяннице, — произнес адмирал. — Замок сломан.
— Это я его сломала, — молвила Наам, — так же как и печать письма, которое находилось в шкатулке.
— Значит, вам поручено было передать его Медзани?
— Да, ей, — ответил доктор. — Она оставила его у себя, ибо, с одной стороны, знала, что Медзани предаст республику и не постоит за интересы синьоры Джованны, а с другой — подозревала, что в ларчике находится нечто такое, что может погубить Соранцо. Она спрятала этот залог, считая, что впоследствии вернет его синьоре Джованне. Та же всецело доверяла Наам и, несомненно, думала, что письмо это до вас дойдет Наам и передала бы его вам, если бы не опасалась повредить Соранцо. Но она сохранила шкатулочку, как драгоценное воспоминание о сопернице, которую любила. Она не расставалась с ней и лишь вчера вечером, убедившись, что Орио пытался ее отравить, сорвала печать с письма и, прочитав его, передала мне.
Адмирал захотел прочесть письмо. Но судья потребовал чтобы, его вручили сперва ему, на что он имел право в силу своих неограниченных полномочий. Морозини подчинился, ибо во всем венецианском государстве не было такой властной и всеми чтимой головы, которая не склонялась бы перед Советом Десяти. Судья ознакомился с письмом, а затем отдал его Морозини. Тот сперва прочел его про себя, а затем стал читать вторично уже вслух, сказав, что делает это для того, чтобы воздать должное чести Эдзелино и показать, что полностью отрекается от Орио.
В письме говорилось:
«Дорогой дядя, или, вернее, возлюбленный мой отец, боюсь, что нам уже не свидеться на этом свете. Вокруг меня строятся зловещие планы, мне грозят погибельные намерения, внушенные ненавистью. Я сделала ужасную ошибку, приехав сюда без вашего ведома и согласия, и, может, быть, понесу за это слишком суровую кару. Но что бы ни случилось и какие бы слухи обо мне ни распространились, знайте, что у меня нет ни перед кем даже малейшей вины, и эта мысль дает мне мужество презирать все угрозы и спокойно принять нависшую надо мной смерть. Может быть, уже через несколько часов меня не будет в живых. Не проливайте слез. Я даже слишком долго жила. Если бы мне удалось выбраться из этого гибельного положения, то лишь для того, чтобы отречься от мира в каком-нибудь монастыре, как можно дальше от супруга, ибо он позор для всего общества, враг своей страны, одним словом
— ускок! Да избавит вас бог от необходимости прибавить к этому, когда вы кончите читать письмо: «и убийца вашей злосчастной дочери Джованны Морозини, которая до последней минуты будет любить и благословлять вас как отца».
Закончив чтение письма, Морозини встал и отнес его на стол, за которым сидели судьи. Затем он низко поклонился им и пошел к выходу.
— Берете ли вы на себя, милостивый синьор, защиту племянника вашего Орио Соранцо? — спросил председатель.
— Нет, мессер, — суровым тоном ответил Морозини.
— Может быть, к сделанным здесь разоблачениям ваша милость пожелает что-нибудь добавить либо в подкрепление обвинений, либо ради их смягчения?
— Нет, мессер, — снова ответил Морозини. — Но если мне позволено будет высказать одно личное пожелание, то я обращаюсь к судьям с мольбой о снисхождении к этой девушке, которую незнание истинной веры и варварские нравы ее племени толкнули на преступления, противные ее благородному сердцу.
Председатель ничего не ответил. Он поклонился военачальнику, который обернулся к графу Эдзелино и крепко пожал ему руку. Так же попрощался он с доктором, а затем быстро вышел, даже взгляда не бросив на племянника. В тот миг, когда перед ним открывали дверь, любимый пес Эдзелино, нетерпеливо дожидавшийся хозяина, ворвался в зал несмотря на стражу, пытавшуюся его отогнать. Это был большой борзой пес, ковылявший на трех ногах. Он устремился к хозяину, но, пробегая мимо Наам, как будто узнал ее и остановился, чтобы приласкаться к ней. Увидев затем Орио, он бросился на него с бешеной злобой, и только властный призыв Эдзелино помешал ему вцепиться в горло своему прежнему господину.
— И ты оставляешь меня, Сириус? — произнес Орио.
— И он произносит тебе приговор! — сказала Наам.
Председатель сделал знак сбирам, и они увели Орио. За ним закрылась внутренняя дверь Дворца дожей. Он никогда больше не переступал ее порога, и о нем больше никто никогда не слышал.
Люди видели на следующее утро, как из тюрьмы вышел монах. Из этого сделали вывод, что ночью кто-то был казнен.
На том же заседании Наам была приговорена к смерти. Она выслушала приговор и вернулась в темницу с безразличием, поразившим всех присутствовавших. Доктор и граф Эдзелино удалились, расстроенные ее судьбой, ибо, невзирая на убийство Даниэли, они не могли не восхищаться мужеством девушки, не сочувствовать ей.
Наам, так же как и Орио, не появлялась больше в Венеции.
Тем не менее уверяют, что вынесенный ей приговор не был приведен в исполнение. Один из членов трибунала, пораженный ее красотой, диким величием ее души и неукротимой гордостью, загорелся к ней пламенной, почти безрассудной страстью. Говорят, что он поставил на карту свое положение, свою репутацию, свою жизнь ради того, чтобы спасти ее. Если верить слухам, он спустился ночью в ее камеру и предложил сохранить ей жизнь при условии, если она согласится стать его любовницей и провести всю жизнь, скрываясь в его имении в окрестностях Венеции.
Сперва Наам отказалась.
Но ее неизлечимое отчаяние, ее глубочайшее презрение к жизни только разожгли страсть этого человека. И поистине Наам подходило быть любовницей инквизитора! Он так донимал ее, что наконец она сказала:
— Лишь одно примирило бы меня с жизнью — надежда увидеть страну, где я родилась. Если ты дашь слово отпустить меня туда через год, я согласна на это время стать твоей рабой. Раз мне надо выбирать между рабством и смертью, я согласна на рабство, с тем чтобы оно было залогом моей свободы в дальнейшем.

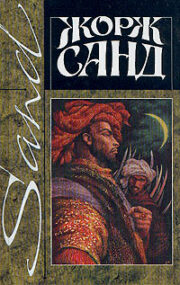
"Ускок" отзывы
Отзывы читателей о книге "Ускок". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Ускок" друзьям в соцсетях.