Я отметила, что ко всем за столом Людмила Петровна обращалась просто по имени, а ко мне – по имени-отчеству, как будто шестым чувством догадываясь, что именно этот вариант своего имени я больше всего не люблю.
— Нет, я здорова, - отозвалась я по-русски. Я сама себе пообещала, что здесь, в деревне, буду говорить на родном языке как можно меньше. – К сожалению, в Петербурге совсем нет солнца, но я надеюсь, что здесь смогу несколько загореть.
Людмила Петровна меня ровно не слышала:
— А то давайте я приглашу к вам своего доктора. Он хоть и жид, но дело свое знает, иначе бы близко я его к себе не подпустила.
— Благодарю, но я здорова, - лучезарно улыбнулась я.
Людмила Петровна покивала, все равно меня не слыша.
— Замуж вам надо – мигом вся хворь пройдет, - выдала вдруг она с очаровательной русской непосредственностью, - у нас вот Василий как раз неженат – а уж пора бы.
Натали даже ахнула, Вася, кажется, покраснел, а лица остальных вытянулись – должно быть, даже в этой семье такое предложение выглядело бестактным. Да и мне, признаться, сделалось не по себе – сперва я и вовсе подумала, что ослышалась.
Больших усилий мне стоило удержать на губах вежливую улыбку, и отвечать как можно сдержанней:
— Я обещаю вам, Людмила Петровна, что, если Василий Максимович изъявит подобное желание, то я непременно подумаю.
К моему облегчению, лица за столом расслабились – кажется, я не усугубила неловкость. А Вася вновь обрел способность говорить:
— Лидия Гавриловна, разумеется, это только шутка: Людмила Петровна вообще большая шутница.
Я перевела взгляд на Людмилу Петровну, глядящую на него мрачно и исподлобья, и тотчас уткнулась в свою тарелку.
Господи, куда я попала…
С трудом дождавшись окончания завтрака, я поспешила покинуть столовую. Но, нагнав у парадной лестницы, меня вдруг окликнул Вася:
— Лидия Гавриловна… – он замешкался и опустил глаза: - отец просил вас зайти к нему, он хочет поздороваться.
— Ему лучше? – воодушевленно уточнила я.
— Да-да, Лидушка, ему намного лучше!
Услышав наш разговор, из столовой выбежала Натали и, повиснув на плече брата, говорила громко и развязано. Ох, боюсь, когда мы вернемся в Смольный, Ольге Александровне придется заново учить мою подругу манерам.
— Спасибо, monsieur Эйвазов, я непременно загляну к нему, - пообещала я.
— Васенька, — продолжала Натали, обращаясь к брату, — я так плохо спала нынче, ты не знаешь, откуда в доме ребенок? Он плакал всю ночь непереставая!
От меня не укрылось, как Вася смутился и снова покраснел – с чего бы?
— Это… это ребенок Даши, нашей горничной. У него зубки режутся, должно быть, — и быстро сменил тему: — Лидия Гавриловна, отец очень просил вас зайти как можно скорее.
Потом поклонился – снова неловко – и ушел.
Я задумчиво посмотрела ему вслед, потом решительно отвернулась, твердя себе, что это не мое дело, и сказала Натали, что поднимусь к ее отцу прямо сейчас.
Глава VI
Спальня Максима Петровича утопала в полутьме. Окна были закрыты наглухо, слабый свет давали только несколько тускло чадящих свечей у изголовья кровати. Пахло застоявшимся воздухом, плавленым воском и, кажется, какими-то травами.
— Лизонька, ты? – хриплым голосом спросил Эйвазов, пытаясь приподняться.
— Нет, это Лиди, подруга Натали, — ответила я по-русски – медленно и с трудом подбирая слова.
— Ах, Лидия, здравствуйте. Подойдите ближе, я хочу посмотреть на вас.
Я покорно подошла к кровати, хотя и несколько робела. Я не любила, когда меня рассматривали вот так и, разумеется, делали какие-то выводы, исходя только из моей внешности. Я знала про себя, что особенной красотой не отличаюсь: среднего роста, достаточно стройна, с легкой походкой и ровной осанкой. Волосы у меня темные и густые, которые я обычно собирала в узел на затылке. Черты лица самые обыкновенные, ничем не примечательные. Четко очерченные брови и синие холодные глаза. Да, мне часто говорила, что глаза у меня очень красивы, но, право, я достаточно пожила, чтобы знать: когда во внешности девушки не видят ничего особенного, то хвалят глаза.
— Вы очень красивая молодая леди, — сказал Максим Петрович и жестом пригласил меня сесть в кресло подле него, а потом добавил, — настоящая русская красавица.
Мне стоило усилий, чтобы не показать, что слова «русская красавица» меня задели. Неужели мсье Эйвазов не знает, что я француженка?
— Спасибо, monsieur, — опускаясь на краешек кресла, только и сказала я.
Сам monsieur Эйвазов был довольно плох. Я не медик, конечно, но несколько месяцев назад нас, девочек из Смольного, приглашали помогать в один из Петербургских госпиталей – Натали уговорила участвовать и меня. Сама Натали, правда, в скором времени поубавила пыл: слишком это тяжелая была работа – как морально, так и физически. Мне же «повезло» обладать выносливостью и стойкой психикой, так что я посещала госпиталь вплоть до наших с Натали les vacances [6].
Так что сейчас, глядя на иссушенное с запавшими глазами лицо Максима Петровича, я не разделяла радости Натали – жизнь едва теплилась в нем, увы, осталось недолго…
— У вас очень сильный акцент, верно, вы недавно приехали? — спросил Максим Петрович, все же пытаясь сесть в постели, а я поспешила поправить подушки, чтобы ему было удобнее.
— Нет, monsieur, — улыбнулась я, — я француженка по рождению, но в России живу уже восемь лет.
— И что же за столько лет вы не овладели русским? – он изумился и хмыкнул: — верно, в Смольном только и делают, что дрессируют девиц говорить по-французски.
Я выдавила из себя улыбку и отвела глаза.
Сказать по правде, в Смольном русская словесность была и остается одним из основных предметов. Мы изучали ее еще в младших классах, но мне отчего-то этот язык никогда не давался: слишком грубый в отличие от изящного французского, и просто до невозможности сложный! Я до сих пор не могу взять в толк, для чего русским столько падежей и такое невообразимое количество суффиксов! Право, их язык такой же непонятный, как и они сами.
А кроме того я просто боялась изучать русскую словесность в достаточно мере – мне всегда казалось, что, если я начну отдавать предпочтение какому-то другому языку, кроме французского, то предам свою родину. А родиной моей была и остается Франция, чтобы там не говорил Платон Алексеевич.
— И как вам нравится в России, Лидия? – услышала я вопрос Максима Петровича.
Я пожала плечами:
— Здесь замечательные люди. Только немного странные… я не всегда понимаю их. И дело не только в языке. У вас странное… как это по-русски? Ideologie[7]. Вам ничем не угодишь. Покойные царь Александр Николаевич был замечательным человеком… я знаю точно, потому что Смольный принимал его в 1879 году, мне тогда было тринадцать. Я помню, какой это был красивый, умный и благородный человек. В конце концов, он совершил столько благ для русского народа, реформы, которые по новаторству своему могут сравниться разве что с реформами Петра Первого. Говорят, что он даже задумал проект Конституции, который новый царь, конечно же, ни за что теперь не реализует. И чем же русский народ отплатил ему? Этим варварством, совершенным первого марта 1881 года?! Это непоследовательно, глупо и… подло.
Наверное, я слишком разоткровенничалась – Максим Петрович немигающим взглядом смотрел мне в глаза и ухмылялся уголком рта. Когда я замолчала, чтобы перевести дыхание, он отвел взгляд, хмыкнул и произнес немного свысока:
— Вы не передергивайте, Лидия. Русский народ – крестьяне – только посмеиваются над этими барышнями да мальчонками с книжками, которые ходят к ним, отрывают от работы и толкуют про высокие материи и абстрактную непонятную свободу. Не народ убил императора, а эти выходцы из «Народной воли» или как их там… Которые, кстати, сплошь дворяне по рождению. И их даже можно понять: готовили-то их с детства для совершенно другой жизни, а на выходе из гимназий оказалось, что маменьки да папеньки разорились и содержать их впредь некому. Хочешь достойно жить – иди работать. А работать-то они не умеют: лишь теории строят да критикуют власть. Зато в них полно злости на того самого царя, который своими «новаторскими реформами» разрушил их планы на счастливую беззаботную жизнь. Несчастные люди.
— Вы что же жалеете этих revolutionnaires[8]? Вы, может быть, непротив, чтобы они пришли к власти?!
Признаться, я была изумлена: подобные мысли мне часто приходилось слышать от молодежи, но чтобы человек в возрасте Максима Петровича поддавался этим неразумным идеям…
А тот неожиданно рассмеялся – правда, смех тут же перешел в надрывный кашель, и мне пришлось вставать за водой.
— Вы смотрите на меня сейчас, Лидия, как агент сыскной полиции, ей-богу!.. – продолжил Максим Петрович, успокоив кашель. - Эти, как вы выразились, revolutionnaires никогда не придут к власти. Потому что они, теоретики и террористы, умеют только уничтожать. Они сметут когда-нибудь привычный нам уклад жизни, Лидия, можете даже не сомневаться. А кто на этих обломках сумеет взять власть в свои руки – один Бог ведает. Я-то до этого не доживу, но мне горько, что вы и Наташа увидите это воочию.
На некоторое время в комнате повисло молчание. Мне отчаянно не хотелось верить в пророчество Максима Петровича: я покинула Францию в 1874, а все мое детство прошло в условиях Третьей Французской республики – страшное революционное время. Я не чувствовала себя русской, но мне не хотелось бы, чтобы Российская Империя пережила нечто похожее на судьбу моей несчастной Франции.
— Что это мы с вами о политике все, – снова рассмеялся Максим Петрович, видимо уловив мою меланхолию. - Расскажите лучше о себе? Наташенька мне о вас все уши прожужжала. Вы имеете большую власть над моей единственной дочерью, так что я хочу знать о вас все.

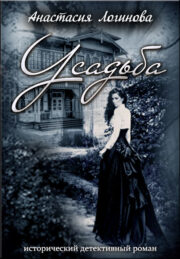
"Усадьба" отзывы
Отзывы читателей о книге "Усадьба". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Усадьба" друзьям в соцсетях.