— А что вы будете загадывать? – снова спросил говорливый парень.
— Что? – отвлеклась я от цветка.
— Говорю, что загадывать будете! – напрягая голос, почти прокричал тот. – Нужно желание загадать над пятилистником, и оно сбудется тогда!
Почему местные считают, что если будут кричать, то иностранцы поймут их скорее: будто у меня проблемы со слухом, а не языковой барьер.
В ответ я пожала плечами и осмотрелась, раздумывая, чего бы мне сейчас хотелось.
— Пожалуй, я загадаю, чтобы дождя больше не было, - медленно и осторожно произнесла я. Кажется, это была самая длинная фраза на русском, которую я озвучила вне классных комнат.
Парень скрестил руки на груди и удовлетворенно покачал головой – видимо, мое желание ему понравилось.
— Головастая вы, барышня, сразу видно. Девки-то молодые все женихов себе загадывают, а у вас, видать, и так от женихов отбоя нет.
Признаться, я почти ни слова не поняла из сказанного, но, кажется, он затронул тему женихов, чем явно позволил себе лишнее. И продолжал:
— Так вы, значит, та француженка и есть?
— Оui, - отозвалась я с улыбкой.
Парень тотчас расхохотался:
— Это я знаю, это «да» означает! Значит, француженка… А посложнее что-нибудь можете сказать?
Я пожала плечами, приходя к мысли, что у меня, кажется, получается поддерживать беседу на русском. Ольга Александровна, несомненно, была бы довольна, а вот мне самой было не очень приятно, что местные считают меня чем-то вроде диковинного зверька.
— La betise est de deux sortes: le silence et bavard[2], - произнесла я с улыбкой, выполняя его просьбу.
Мужчина начал было повторять, коверкая французский, а я подумала, что если он переведет и эту фразу, то получится, пожалуй, некрасиво, так что я быстро сделала легкий реверанс и попрощалась.
— Удачного дня, monsieur.
По дорожке, ведущей к дому, кто-то прогуливался, а мне не очень-то хотелось снова вести беседы на русском, так что я решила пройтись в противоположную строну – вглубь парка.
То и дело здесь встречались скамьи, на которых, должно быть, одно удовольствие сидеть в летнюю жару и беседовать с другом. Деревья чем дальше, тем становились выше, что только подтверждало слова madame Эйвазовой о том, что парку, как и дому, почти сто лет. Однако, несмотря на внешнюю его опрятность, мне было в этом парке отчего-то тревожно. Вскоре я поняла, в чем дело – слишком тихо. Ни людских голосов, ни шелеста листвы, ни даже щебета птиц… странно.
Парковая дорожка упиралась в белокаменный фонтан с мраморной нимфой посредине. В фонтане уютно журчала вода, а на дне я, к удивлению своему, рассмотрела с десяток золотых рыбок, отражающих своей чешуей солнечный свет.
Я села на бортик фонтана и опустила руку в холодную воду. Невольно улыбнулась: все-таки это действительно прекрасное место. Я решила, что позже непременно приду сюда с книгой. И, конечно же, нужно показать эту красоту Натали – быть может, она играла здесь в детстве, но с тех пор прошло столько лет, что она наверняка все позабыла.
Снова поднявшись, я обошла фонтан по кругу и увидела, что мощеная камнем дорожка тянется и дальше, хотя сразу за фонтаном ее преграждают тяжелые чугунные ворота. Запертые, как обнаружила я, приблизившись. Сквозь витую решетку можно было разглядеть, что дорожка за воротами уже не такая чистая, как до них, да и деревья вовсе не стриженые, а даже мрачные. Должно быть, владения Максима Петровича кончаются как раз у этих ворот.
Побродив возле фонтана еще немного, я решила, что, пожалуй, голодна, да и завтракать, должно быть, скоро позовут. Я направилась в дом.
Глава V
Завтрак подали в столовой – не очень большой, но светлой и уютной. У противоположной от входа стены здесь располагался камин, облицованный мрамором, над ним – портрет императора Александра Александровича[3] – копия с картины Николая Шильдера. В углу по русскому православному обычаю иконостас с чадящими лампадками. На стенах здесь висели пейзажи работ Шишкина и Айвазовского, а также несколько работ художников, которых я не смогла узнать. Однако все пейзажи были подобраны с умом и чувством стиля – вероятно, тот, кто обустраивал эту столовую, любил и понимал живопись. Я не без уважения посмотрела на Лизавету Тихоновну, молчаливо помешивающую чай. Сегодня на ней было не черное траурное платье, а голубое, делающее ее куда менее строгой.
Из столовой вели несколько дверей – одна из них, должно быть, на кухню; а две другие, полностью остекленные, так же как и окна выходили на уютную веранду со скамейками и цветочными кадками. Впрочем, эти двери сейчас были закрыты, а изрядную часть самой столовой занимал квадратный стол, покрытым розовой скатертью. Мое место находилось подле Натали, слева от нее сидел брат, Василий Максимович, следующее место почтительно пустовало – видимо, оно принадлежало Максиму Петровичу, хозяину усадьбы, который к завтраку, разумеется, выйти не мог. Еще левее сидела Елизавета Тихоновна. Далее восседал молодой мужчина – тот, с которым я столкнулась утром в неподобающем виде. Это был Евгений Иванович Ильицкий, кузен Натали и сын той самой Людмилы Петровны, которую Натали боялась не меньше мачехи.
Людмила Петровна, сидевшая справа от меня, и правда вид имела неласковый: высокая, полная, даже, пожалуй, тучная женщина в черном траурном платье, с черным же чепцом, покрывающим белокурые волосы, туго стянутые в пучок. Брови ее были постоянно нахмурены, а острый взгляд маленьких глазок, казалось, не смотрел, а царапал своего vis-a-vis[4]. Она говорила за столом больше всех, причем тоном, не терпящим возражений.
— Вы опять не велели подать овсянку, Лиза? – первым делом, едва присев за стол, спросила она, обращаясь к madame Эйвазовой так, будто та была в лучшем случае экономкой, а не хозяйкой дома. – Доктор Берг постоянно мне говорит, что овсянка исключительно полезна, в ней множество витаминов и минералов, а в вашей любимой яичнице с ветчиной один сплошной le cholestérol[5]!
Положив в рот еще один кусок ужасно неполезной ветчины, она демонстративно, с выражением брезгливости на лице отодвинула тарелку и потребовала нести себе чаю.
— Овсянку в этом доме никто не любит, Людмила Петровна, - не глядя на ту, отозвалась madame Эйвазова едва слышно. – Смею вам напомнить, что даже вы ее никогда не ели, не смотря на рекомендации доктора Берга.
— Вы не смейте меня подлавливать, Лиза! Возрастом еще не вышли! – Людмила Петровна разволновалась, заговорила громче, и лицо ее начало покрываться красными невротическими пятнами.
— Мама, оставьте Лизу в покое, вам вредно волноваться, - негромко и без особого энтузиазма произнес кузен Натали, не отрываясь от тарелки.
По-видимому, подобные сцены в этом доме не были редкостью, и только нам с подругой было неловко при них присутствовать.
— Да-да, сынок, - отозвалась Людмила Петровна, - мне нельзя волноваться, а Лиза совершенно не жалеет моих нервов! И Максима Петровича не жалеет – из-за этой проклятущей яичницы он два инфаркта и перенес! – она отодвинула тарелку еще дальше. - Вы просто закупали не тот сорт овсянки – закупали бы тот, ее бы вмиг все полюбили…
— По моему мнению, овсянка это скользкая и отвратительная жижа, какого бы сорта она не была, - снова заговорил Евгений Ильицкий с мрачной усмешкой. – Были годы, когда я наелся ею, кажется, на две жизни вперед, потому искренне благодарен Лизе, что в этом доме овсянку не подают.
Madame Эйвазова, благодарно улыбнулась ему, сидящему рядом, а Людмила Петровна, не замечая улыбок, только тяжело вздохнула:
— Ох, любишь ты, Женечка, все жирное да неполезное. Давай я тебе, сыночек, сахарку в чай положу…
И с упоением принялась накладывать кубики рафинада.
В этот момент я не удержалась и подняла взгляд: очень уж мне любопытна была реакция «Женечки», чей возраст стремительно подбирался к тридцати, а рост давно уже превысил маменькин. Ильицкий был довольно хорош собою: широкоплечий стройный брюнет с черными глазами и тонким с небольшой горбинкой носом. Пожалуй, многие девушки с удовольствием бы им увлеклись, но, право, глядя, как тридцатилетний «Женечка» покорно принимает от маменьки сахарок, я уже не могла воспринимать его как мужчину, а только сдерживалась изо всех сил, чтобы не улыбнуться.
Кажется, Ильицкий все же догадался о тщательно скрываемых моих чувствах, но мне было уже все равно – силы я отдавала на то, чтобы ни один мускул на лице моем не дрогнул. А вот Натали не выдержала, наблюдая ту же сцену, и издала очень неприличный смешок, за что я тут же наградила ее осуждающим взглядом.
На какое-то время за столом повисла тишина, а потом заговорила вдруг моя подруга – самым невинным голосом:
— А я очень люблю овсянку. Лизавета Тихоновна, вы будете столь любезны обеспечить ее на завтрак для вашей падчерицы?
И тоже отодвинула тарелку.
Однако. Моя подруга наудивление легко вписалась в свою семью: я тут же послала Натали еще один строгий взгляд, потому как вела она себя неподобающе, и та, устыдившись, опустила глаза.
— Для моей падчерицы все, что угодно, Наташа, - выдавила улыбку Эйвазова.
Впрочем, судьба все же наказала Натали от лица ее тетушки:
— Совершенно верно, Наташенька, - не унималась Людмила Петровна, - тебе определенно не стоит любить жирное. Я хорошо помню твою матушку, царствие ей небесное, очень склонная к полноте была женщина. До свадьбы-то тоже тоненькая была, как тростиночка, а после родов – ох уж ее разнесло-то!.. Тебя, деточка, то же самое ждет.
Натали густо покраснела и даже отложила ломтик булки, что щипала, отказавшись от завтрака.
Досталось от любезной Людмилы Петровны тем утром и мне:
— Что-то вы бледны очень, Лидия Гавриловна, никак больны чем? – спросила она, громко прихлебывая чай.

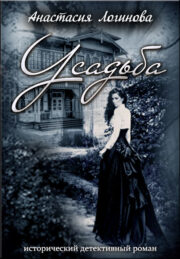
"Усадьба" отзывы
Отзывы читателей о книге "Усадьба". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Усадьба" друзьям в соцсетях.