— А где она живет?
— В Коломне, на Псковской улице, в доме секунд-майора Прокофьева, по полицейским книгам это пятнадцатый номер.
— Что же она — приезжая?
— Не знаю, право. Я ее об этом не спрашивал.
— Надо спросить об этом Бенкендорфа, — сказал государь.
— Ах нет, пожалуйста, не впутывай сюда своих жандармов. Я сказал ей, что гарантирую ей полную неприкосновенность, а свое слово я привык держать. Скажи мне, что ты не хочешь, чтобы она продолжала свое ремесло, или что ты требуешь, чтобы она совсем уехала из Петербурга, и это будет обязательно исполнено, но только мне это скажи, а не Бенкендорфу!
— Да я и не думаю изгонять ее из столицы. За что, если она зла никакого не делает? Напротив, я сам хочу съездить к ней.
Министр двора насторожился. Это, видимо, в его расчеты не входило.
Государь сразу понял это.
— Я требую, — строго сказал он, — чтобы до тех пор, пока я сам не побываю у этой гадалки, никто из моей свиты или из приближенных ко мне лиц не посещал ее. Если я узнаю о чем-либо подобном, то лицо, ослушавшееся меня, немедленно получит чистую отставку.
Все знали непреклонный характер и непреклонную волю государя. Поэтому министр низко опустил голову, а на живом, хотя и некрасивом лице Михаила Павловича выразилось полное удовольствие.
— Псковская улица, пятнадцать? — переспросил государь.
— Так точно, ваше величество, — ответил министр.
— Да, хочешь, я сам тебя довезу? — спросил великий князь. — Я не войду, войди ты один. Я только до дома ее тебя довезу.
— Отлично, поедем! — согласился государь. — Сегодня вечером, хочешь? Сегодняшний вечер у меня совершенно свободен. Маленький полковник ведь завтра выходит? — спросил он, обращаясь в сторону министра.
— Так точно, ваше величество!
— Поменяемся? — рассмеялся государь, обращаясь к брату. — Ты меня сегодня к гадалке свези, а я тебя завтра с маленьким полковником познакомлю. Согласен?
— Нет, не согласен, — ответил великий князь таким недовольным тоном, что государь поневоле рассмеялся.
— Ну как знаешь, не езди, пожалуй! Только я тебе этого полковника гусарского на съедение не отдам! Это уж как ты там хочешь. Его права и его ментик я лично защищу от твоих нападок.
Михаил Павлович с улыбкой пожал плечами. Он был уже побежден. Он видел и понимал, что мимолетный каприз его державного брата принимает все размеры маленькой вспышки страсти, и стушевался перед этой фантазией, как привык стушевываться перед всем, касавшимся обожаемого брата.
В тот же вечер государь вместе с великим князем Михаилом Павловичем в маленьких одиночных саночках направлялся в глухую в то время Коломну.
Кучер государя, привычный к его капризным экскурсиям, не удивился, когда ему отдан был приказ везти своих державных господ в отдаленную, глухую часть города, к церкви Михаила Архистратига. Там великий князь приказал свернуть влево, на улицу, расположенную прямо против храма, и остановиться перед домом секунд-майора Прокофьева.
Дом был небольшой, одноэтажный, с широкими, наглухо запертыми деревянными воротами.
На углу стоял будочник с алебардой. Великий князь подозвал сермяжного героя, который при виде гвардейского мундира застыл в трепетном ожидании.
— Обойди и вели отворить ворота! — приказал великий князь.
Государь остановил его.
— Не надо! — сказал он по-французски. — Чем меньше мы будем заявлять требований, тем лучше.
— Ей это не помешает нас узнать сразу! — заметил великий князь.
Тем не менее кучеру велено было остановиться на улице, и оба высокопоставленных посетителя пешком прошли до квартиры гадалки.
Флигель, в котором она помещалась, был в углу довольно просторного двора и отличался относительным благоустройством. Дверь ее была обита чистым сукном, у входа горел фонарь. Все говорило об известной степени культуры. В то время звонков у дверей простых и сравнительно дешевых квартир еще не полагалось; для того чтобы войти в квартиру, довольствовались первобытным стуком в дверь. Постучали и высокие посетители.
На стук появилась старуха, повязанная платком со спущенными назад концами, как обыкновенно повязываются цыганки.
— Вам кого? — осведомилась она.
Они не успели ответить, как из внутренних комнат раздался резкий голос, крикнувший:
— Впусти, Заремба! Этих гостей никто не смеет не впустить.
Старуха молча и покорно открыла дверь.
— Шире открывай, шире! С почетом принимай! — послышался тот же резкий, гортанный голос, с заметным иностранным акцентом.
Великий князь бросил торжествующий взгляд на брата. Государь пожал плечами. Но он не был еще убежден; он заподозрил чью-нибудь интригу, и его подозрение пало на Волконского.
— Пойдем! — коротко сказал он брату.
Они оба двинулись вперед, предводительствуемые старухой, и на пороге их встретила другая старая женщина, резко отличавшаяся от первой. Насколько та была проста и как-то заурядна, несмотря на свое довольно типичное лицо, настолько эта казалась тонкой, хитрой и выдавалась какой-то деланной, картинной эффектностью. Она была вся задрапирована в длинный полосатый плащ, такой, в каких евреи совершают свои молебствия. На голову ее был картинно наброшен ярко-красный платок. В черных, но тонких и стройных руках она держала маленькую золотую тросточку. Она встретила высоких посетителей на пороге своей комнаты и низко поклонилась им.
Государь пристально взглянул на нее.
— Пожалуйста, ваше величество! — сказала старая сивилла, почтительно преклоняя голову перед государем и пропуская его в комнату.
— Кто тебя предупредил о моем посещении? — строго спросил государь.
— Никто меня ни о чем не предупреждал! — прямо и смело взглянув на него, ответила гадалка. — Я сама знала, ждала вас в этом часу.
На великого князя старуха взглянула, как на старого знакомого, и почтительно, но почти дружески поклонилась ему. Все ее внимание было сосредоточено на особе государя. Она видела и замечала недовольное выражение на его лице, но это, видимо, нисколько не пугало ее.
Она прошла в комнату и пригласила своих высоких гостей присесть.
— С вашим величеством я хотела бы одна, с глазу на глаз, поговорить! — смело заметила гадалка, бросая бесцеремонный взгляд в сторону великого князя.
Он поднялся с места.
— Останься! — сказал государь. — Вздор! От тебя у меня тайн нет!
— Неправда, есть тайна! — серьезно и строго сказала старая сивилла. — И этой тайны я хочу коснуться для того, чтобы ваше величество перестали держать в уме своем подозрение против лица, ни в чем не повинного. Я вашего министра не видала ни разу, и дай Бог, чтобы он ко мне не приходил и меня ни о чем не спрашивал.
— Почему так? Разве ему предстоит какое-нибудь особое несчастье?
— Да, предстоит, — ответила цыганка.
— Какое? Служебное?
— Нет! По службе у него все пойдет исправно до конца, но умрет он от страшной, почти неслыханной болезни!
Великий князь пристально взглянул на брата. Он видел, что государь начинает верить.
— Ваше величество напрасно подозреваете именно этого министра во лжи, — сказала цыганка. — Он проще и бесхитростнее остальных! Но не об этом я хотела бы поговорить с вашим величеством. Мне нужно передать вам более интимные и, пожалуй, более житейские вещи.
Великий князь встал и молча направился к двери. Государь на этот раз не останавливал его. Он был почти покорен. Вся фигура старой цыганки, весь тон ее речи дышали безыскусственной, неподкупной правдой.
— Ну вот, мы с тобой вдвоем, — сказал государь. — Что-то ты мне скажешь?
— На первых порах, — начала сивилла, пристально глядя в лицо своего высокого посетителя, — я скажу тебе… — Она разом изменила свой тон и стала говорить государю «ты». — Прежде всего я скажу тебе, что пора тебе в Сибирь гонца посылать. Умирает там великий добровольный узник! Великий подвижник умирает. Не скончается еще он теперь в этой болезни, не закатится еще над грешным миром яркая, блестящая небесная звезда, но страдания его велики, и он ждет из своего дома горячего привета и помощи.
— Помощи? — переспросил государь, пораженный тем, что он слышал. — Помощи?
— Не материальной, конечно! В ней он не нуждается и не может нуждаться. Как ни ушли вы все в свой властный эгоизм, как ни забыли вы о том, о чем вам забывать не следовало, но до нужды материальной все-таки и вы великого подвижника, великого молитвенника за грешный мир не допустите! Ему и не нужно ничего. Его звезда сияет над миром и из того мрачного далека, где угасает его великая, его святая жизнь.
Император слушал гадалку, весь онемев от страха и смятения. Ничего подобного он не ждал, ни на что подобное, отправляясь к гадалке, не рассчитывал.
— Об этом мне говорить не следовало, — сказала гадалка, — об этом никто не смеет говорить, так же как и о том, какой грех искупает великий подвижник в своем тяжелом заточении. Я сказала тебе это, государь, только для того, чтобы понял ты, что имеешь дело не с пройдохой-цыганкой, что не на кофейной гуще я гадаю, как все обыкновенные гадалки, которых так много в вашем странном, как будто образованном городе. Мне хотелось доказать тебе, что мне поверить можно и что ни лгать, ни интриговать я не стану и не умею.
— Да, я тебе верю, — сказал государь, — глубоко верю тебе. Но скажи мне одно. То лицо, о котором ты говоришь… ты сама никогда не видала его?
Гадалка подняла на императора пристальный и проницательный взгляд.
— Вот и ты, государь, отгадчиком стал, и ты стал провидцем, — сказала она. — Видела я его, сподобилась его лицезрения. Нарочно я в далекую Сибирь ездила за этим, по тайге зимою пробиралась, в бурях жестоких чуть не погибла, с буранами снежными боролась, чтобы только добраться до его святой, одинокой кельи и земно поклониться ему. Стара я, государь, так стара, что ты не поверишь мне, если я тебе о настоящем возрасте скажу. Его я молодым да светлым помню. И родителя твоего убитого помню, и в самый день его горькой кончины я его видела! Слышал ты, небось, когда он, уходя из гостей, сам себя в зеркале с перетянутым веревкою горлом видел? Все я помню, все видела, все пережила, и вот теперь свой великий дар на потеху людскую отдаю, для того чтобы на старости лет денег побольше заработать.

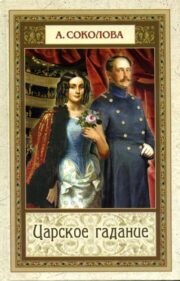
"Царское гадание" отзывы
Отзывы читателей о книге "Царское гадание". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Царское гадание" друзьям в соцсетях.