Но мой отец, единственный из сыновей Агабоса, переживший все его кампании, был больше заинтересован в распространении поклонения лунному богу Алмакаху на территории объединенного царства, а не только в границах самой Сабы. В тот год он назначил себя верховным жрецом и управлял лишь храмовыми банкетами и ритуальными охотами до тех пор, пока даже мои детские уши не услышали ропота недовольных, гудевшего в коридорах дворца, как пчелиный рой.
Я не доверяла Хагарлат. Не потому, что она поддерживала его религиозное рвение, и не из-за ее пятнистого верблюжьего лица, и даже не потому, что она принесла в наш мир тот пищащий сверток, который звался моим братом, — но потому, что она заняла комнаты моей матери, завладела всеми ее украшениями и заставила всех, кроме меня, позабыть об имени Исмени.
Дворец стал мне чужим, когда слуги мачехи и жуткие жрецы заполнили его коридоры звучанием грубого языка своего племени. Мои новые родственники и даже их рабы либо смотрели сквозь меня, не замечая, либо ограничивались приказами, а дети, с которыми я росла, отдалились от меня за тот год, что я провела в молчании.
— Держись от меня подальше! — сказал мне один из них, мальчик по имени Лубан, когда я попыталась подговорить его сбежать в конюшни. Раньше, когда мама была жива, мы много часов проводили там, кормили верблюдов и прятались от моей няньки. — Твоя мать мертва, а Хагарлат — королева. Ты теперь просто вне закона.
Я заморгала, потрясенно глядя на его круглое лицо, на котором было написано презрение.
А потом подбила ему глаз.
— Я дочь царя! — кричала я, стоя над ним, пока кто-то не оттащил меня прочь.
В тот вечер меня лишили ужина, но у меня не было аппетита. Я уже видела раньше, как юные друзья покойных соратников становились слугами наследников, приходивших на смену, но никогда не думала, что подобное может произойти со мной.
— Ты царевна. Не забывай, кто ты, — сказала мне в ту ночь моя нянька. Но я не знала, кто я такая. Со мной остались лишь нянюшка и ее дочь Шара.
И хотя больше никто — по крайней мере, в лицо — не называл меня незаконнорожденной, от меня не укрылось, как огибают меня взгляды, как меняется выбор тканей для моих платьев, как подарки от отца становятся все реже, пока не прекращаются вовсе.
Однажды я нахально вошла прямо в комнату Хагарлат, где она диктовала план празднования первого дня рождения моего брата, разложив на кушетке рулоны крашеных тканей и редкого шелка.
— Где те вещи, что посылает мне мой отец? — требовательно осведомилась я. И услышала вокруг потрясенные вздохи, краем глаза заметив исказившееся от ужаса лицо моей няньки.
Хагарлат обернулась, и изумление на ее лице было написано так же отчетливо, как рисунок хной на ее лбу. С ее ушей свисали серьги зеленой яшмы. Толстый золотой пояс охватывал бесформенную талию. Я подумала, что она выглядит как разряженная ослица.
— Что, дитя, он позабыл тебя? А сюда он шлет так много подарков. Ах, как ужасно твое лицо… — Она потянулась к моей щеке.
И в тот самый миг, когда моя нижняя губа готова была задрожать, я увидела его: рубиновый браслет, когда-то принадлежавший моей матери, тот самый, который она подарила мне перед смертью.
— Где ты его взяла? — спросила я. Нянька уже тянула меня прочь, шипя, чтобы я замолчала. — Это мое!
— Что, это? — сказала Хагарлат. — Ах, ну если он так много для тебя значит, можешь забрать. — Она сняла браслет и бросила его мне. Он упал на пол у моих ног.
— Простите меня, царица! — залепетала нянька. Я вынырнула из кольца ее рук и подхватила браслет с пола. Одного рубина в нем не хватало, и я принялась лихорадочно искать его на ковре, но нянька все же выволокла меня из комнаты.
С тех пор я избегала дворца, насколько могла. Я уходила в сады и проводила долгие часы у бассейнов, напевая себе под нос мамины песни. Пыталась забыться в занятиях с учителем, которого приставил ко мне отец, явно для того, чтобы со мной не было новых проблем.
В течение трех лет я изучала поэзию шумеров, мудрость египетских писаний, истории о создании мира из Вавилонии. Я приходила к дворцовым писцам и развлечения ради читала порой из-за их плеча судебные документы, а главный писец отца позволял мне любоваться своим гордым почерком и даже делился со мной описанием битв моего деда, когда я подкупала его кувшином вина, утащенным из подвалов. Я с нетерпением ждала возвращения торговцев, привозивших новые сокровища: пергаментные свитки, таблички, вощеную бумагу, даже пальмовые черенки, на которых высекались их торговые счета.
Впервые с тех пор, как моя матушка перешла в мир теней, я вновь обрела радость. Мой новорожденный брат, Даммар, должен был стать царем. Я же скользила мимо дворцовых коридоров с их политическими дрязгами и тайными интригами, стремясь к историям других людей, что жили далеко-далеко отсюда. Стремилась сбежать от всего…
Но не сумела избежать взглядов брата Хагарлат.
Садйк был змеей — толстяк с безжизненными глазами, от которых ничто не могло укрыться, и с даром убеждать советников моего отца в собственной полезности.
Служанки и рабыни часто сплетничали о нем, говоря, что он родился под сильным знаком, — на самом деле это означало, что он изрядно разбогател, когда его сестра вышла замуж за моего отца. Казалось, им очарована половина дворца, хоть я и не могла понять почему.
Но самого Садика интересовал лишь один человек — я.
Его глаза следили за мной сквозь арки. Я чувствовала, как этот взгляд змеей скользит по моей спине и плечам всякий раз, когда я появлялась в алебастровом зале.
И это заметила не только я.
— Не удивлюсь, если Хагарлат попросит твоего отца отдать тебя Садику, — сказала мне однажды няня, закончив причитать над моими непослушными волосами. Шара, которая была мне как сестра, округлившимися глазами взглянула сначала на мать, а затем на меня. Она стала ненавидеть родственников Хагарлат после их появления во дворце, пусть даже только из верности мне.
— Он не согласится, — сказала я.
— Отчего же нет?
— Садик верен ему и без того.
Я не питала иллюзий по поводу собственного будущего: через несколько лет меня должны были выдать замуж за кого- то из знати.
Но не за Садика.
— Любовь Хагарлат к своему брату известна каждому, — сказала няня, яростно расчесывая мои волосы. — Как и ее способность получать милости от твоего отца.
— Но он даже не глава племени!
— Он брат царицы. И к концу года станет мастером вод, попомни мои слова.
Я потрясенно на нее посмотрела. Мастер вод управлял распределением потока воды от великой дамбы Вади, шлюзы которой питали оазис по обе стороны Мариба. То была должность, дающая власть над самыми влиятельными племенами столицы. Лишь честный и уважаемый человек мог справляться с неизбежными конфликтами по поводу распределения вод.
Садик не был ни честным, ни уважаемым.
— Он сумеет разве что собирать взятки.
— Билкис!
— Это правда. Садик — червь, питающийся от груди своей сестры!
Нянюшка резко и громко вздохнула и — я это чувствовала — была готова призвать меня к осторожности. Но прежде, чем она успела сказать хоть слово, Шара уронила бронзовое зеркало, которое как раз полировала. Зеркало с глухим стуком упало на ковер.
— Неуклюжая девчонка! — рыкнула на нее мать, но Шара этого словно не услышала, не поднимая взгляда от пола.
Нянюшка помедлила, затем ахнула и уронила пряди моих волос, которые начала заплетать. Она шагнула в сторону и поклонилась так низко, что я испугалась за ее шею.
Я медленно повернулась на стуле.
Там, в арке двери нашей общей комнаты, стояла Хагарлат. Край ее вуали был заколот, открывая лицо, в каждом ухе дождем звенели тяжелые золотые серьги. Две ее женщины стояли в маленькой комнатке за аркой. Я поднялась на ноги.
На секунду мы обе застыли. Я не шевельнулась даже для поклона, когда она молча ко мне подошла. Хагарлат остановилась лишь перед зеркалом и нагнулась, чтобы поднять своенравную игрушку.
Окинув зеркальце взглядом, она взяла тряпицу из застывшей руки Шары, провела ею по поверхности и протянула зеркало мне.
— Чтобы ты могла лучше видеть, — сказала она и вышла, уронив тряпицу на ковер.
В миг, когда она скрылась из виду, няня и Шара повернулись ко мне одинаковым движением. Их лица побелели, ноздри трепетали от страха. Я не стала спрашивать, как вышло, что дверь в наши комнаты оказалась открыта. Это не имело значения.
Через неделю я была помолвлена с Садиком.
Я бросилась в ноги отцу в приемной комнате его личных покоев — в месте, где он мог быть не царем, но человеком.
— Умоляю, не отдавай меня ему, — плакала я. Я цеплялась за тонкую кожу его сандалий, оттолкнув край халата, чтобы прижаться лбом к его ступням.
— Билкис, — со вздохом ответил он. Я подняла голову, но отец не смотрел на меня. Морщинки у его глаз казались глубже в слабом свете дворцовых ламп, с края ресниц исчезла характерная прежде сурьма. — Разве ты не можешь этого сделать? Ради Сабы — и ради Алмакаха прежде всего?
— Но что мне за дело до любых богов? — сказала я. — Боги делают что хотят!
— Так неужели же ты богиня, чтобы делать лишь то, что хочешь? — тихо спросил он.
— Она сделала так лишь потому, что услышала, как я плохо говорю о Садике. Я искуплю свою вину! — Я понурила голову, сжалась у его ног. — Я попрошу прощения. Я буду прислуживать в ее покоях. Но прошу, не заставляй меня делать вот это!..
Он потянулся ко мне, поднял на ноги.
— Хагарлат желает видеть усиление связи наших племен. И почему нет? Твой брат будет царем. Неужели ты действительно считаешь царицу столь мелочной?
Я отпрянула от него.
— Разве ты не видишь, что она ненавидит меня?

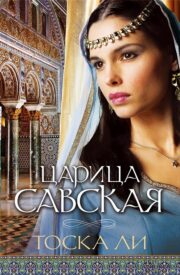
"Царица Савская" отзывы
Отзывы читателей о книге "Царица Савская". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Царица Савская" друзьям в соцсетях.